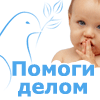Сургучев Илья, Детство Императора Николая Второго:
Илья Сургучев
ДЕТСТВО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
ФРАНЦИЯ
В предреволюционные годы имя Ильи Дмитриевича Сургучева (1881—1956) стояло в одном ряду с ведущими писателями-реалистами Буниным, Леонидом Андреевым, Куприным, — хотя и было лишено столь шумной популярности. Почти постоянно — вплоть до эмиграции в 1919 году — проживая в Ставрополе, писатель находился как бы в стороне от бурной литературной жизни обеих столиц. Однако повесть Сургучева «Губернатор», его пьесы «Торговый дом» и «Осенние скрипки», поставленные соответственно питерским Александрийским и Московским Художественным театрами, принесли ему всероссийское признание. Столь же доброжелательно встречались критикой и читателями его психологически заостренные и филигранно отточенные рассказы, периодически печатавшиеся в сборниках «Знание» и повременных изданиях. Интерес к внутреннему миру человека, эмоциональная напряженность и драматизм фабулы составляют стержневую основу художественного дарования писателя, жившего в сложную эпоху общественно-социальных контрастов и отразившего их в своем творчестве.
Резко отрицательно восприняв большевистский переворот, И. Д. Сургучев примкнул к Белому движению и прошел с ним весь тернистый путь борьбы. А дальше — традиционные этапы русского беженства: Константинополь, Прага, Париж. В эмиграции — как, впрочем, и в России — Сургучев писал немного. Но, как и прежде, это были яркие и взволнованные отклики на будни полуголодного беженского существования. И как «прежде», произведения Сургучева — будь то «Эмигрантские рассказы», роман «Ротонда» или пьеса «Реки Вавилонские» — доброжелательно встречались читателем, переводились на иностранные языки.
Документальная повесть «Детские годы императора Николая II» написана в конце жизни (издана в 1953 году парижским «Возрождением»), когда писатель был уже тяжело болен, и стоит она несколько особняком в ряду других его произведений. Если в целом творчеству Сургучева свойственна некоторая импрессионистичность письма — взволнованность интонации, напряженность ритма, то в данном случае, в точном соответствии с особенностями жанра, перед нами как бы строгий образец бытописательства... Но это лишь чисто внешнее и обманчивое впечатление. Тонкий мастер прозы, Сургучев, выстраивая ряд нарочито обыденных и заземленных фактов бытовой обстановки, с ювелирной точностью выписывает психологические характеристики своих героев — реальных исторических персонажей. Таким образом с изысканным блеском камуфлируя художественный прием, Сургучев демонстрирует высший пилотаж писательского мастерства. И в этом — помимо исторической значимости повести — состоит ее художественная самоценность.
Александр АПАСОВ
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЦЕРКОВЬ ДВОРЦА. ПРИЕЗД НЯНЬ 34
Дело обстояло так, в 1939 году я проводил лето в Жуан-ле-Пэн. Лето было необыкновенно веселое и шумное. Пир жизни шел горой. И однажды, как мане-факел-перес, прозвучал из радио хриплый голос Даладье: «Вив ля Франс»: Франция объявила войну Германии. И в течении двух суток вся французская Ривьера опустела: веселый народ устремился под родные крыши. «Замолкли серенады, и ставни заперты». Осталась одна природа — и тут я понял, до чего она, со своей красой вечной, равнодушна ко всему человеческому. Синее море плещется тихо, небо сияет безоблачным шелком, — и тишина, тишина... Сосновый дух пинеды стал как будто сильнее, в воде как будто прибавилось соли и в солнце стало меньше жестокости. Я с наслаждением прогуливался по набережной и вдруг, однажды, слышу жалобный кошачий, крик. И вижу: на ступеньках заколоченной виллы сидит кошка с котенком и плачут от голода. Я пошел в мясную, купил нарезанный мелко бифштекс и бросил голодающим. Тотчас же из-за кустов выскочил еще один котенок и начался суп-попюлэр. И после этого я начал приносить им еду каждый день. Они знали час и ждали. Однажды ко мне подошла какая-то пожилая женщина, явно английского типа, и утвердительно сказала:
— Вы — русский.
— Почему вы думаете, мадам? — спросил я.
— Потому что только англичане и русские кормят несчастных зверьков.
Начался обычный разговор только что познакомившихся людей, и вдруг она спросила:
— А вы знаете полковника Олленгрэна?
Я ответил, что не имею удовольствия.
— А он ваш соотечественник: не желаете ли познакомиться?
— Очень охотно, мадам.
И на другой день она пришла с высоким сухим, первоклассной офицерской выправки, улыбающимся стариком.
Присели на заборчик, закурили, и начался учтивый петербургский салонный разговор, — из тех разговоров, которые включают в себя все знаки препинания, кроме восклицательного. — И, прощаясь, Олленгрэн вдруг сказал, вздохнув:
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны,
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы...
И по берегу Средиземного латинского моря вдруг пронеслась великая северная тень, — и до сих пор неравнодушная к «человеческому».
Коты приносят удачу: началось интересное знакомство, и в результате вот эта книга.
Спустя долгое время я понял, почему Олленгрэн вдруг, и так выразительно, процитировал Пушкина: это был музыкальный ключ к человеку.
И. С.
* * *
(По устному рассказу полк. В. К. Олленгрэна)
Отец мой, капитан Константин Петрович, умер от скоротечной чахотки 1872 году, оставив после себя: молодую вдову с четырьмя детьми, сто рублей годовой пенсии и собственный маленький домик в Коломне, по Псковской улице, № 28. Матери моей, Александре Петровне, было в то время около 3 лет, старшему брату Петру — 12 и мне, «Вениаминчику» — около пяти.
Не имея в день на пять душ даже полных 30 копеек, мы начали влачить существование в полном смысле голодное и холодное, хотя и в «собственном» доме. Мать по утрам куда-то и с какими-то узелками бегала, — не то в ломбард, не то на толкучку, и тем «люди были живы».
Я лично, по молодости лет, тягот жизненных не ощущал и в полной свободе, предоставленной нам обстоятельствами и далекой, совершенно в те времена провинциальной и патриархальной Коломной, наслаждался улицей, возней в пыли или снегу, боями, закадычной дружбой с соседскими мaльчугaнaми, голубятней и бесконечной беготней взапуски. К семи годам из меня выработался тот тип уличного мальчишки, которых в Париже зовут «гамэн».
Когда узелки материнские кончились, надо было что-то предпринимать. Начальницей Коломенской женской гимназии была в ту пору Н.А. Нейдгардт, подруга матери по Екатерининскому институту, который, кстати сказать, мать окончила «с шифром».
Г-жа Нейдгардт приняла свою бывшую товарку ласково, вошла в ее положение и предоставила ей должность классной дамы в четвертом классе вверенной ей гимназии, с жалованием в 30 рублей в месяц. Вместе с 8 рублями пенсии уже можно было не только существовать, но и нанять прислугу.
Взяли какую-то Аннушку, тихую, монашеского склада девицу, с которой мать прожила почти до конца своей жизни. Аннушка была не только кухаркой за повара, как печатали в газетных объявлениях, но и полноправным членом семьи. Под конец своей жизни она ушла в иоаннитки. Вспоминаю ее с благодарностью. Она давала нам полную волю, и мы, детвора, а в особенности я, когда мать уходила в гимназию, целыми днями «гойкали» по Коломне.
Бабки, свинчатки, лапта, чужие сады и огороды, — все манило и радовало нас. К концу 1875 года мне уже было около восьми, — помню себя с длинными льняными волосами: мои родоночальники были шведы. И хотя Швеция — страна северная, славящаяся спокойным, чинным и патриархальным характером своих граждан, но во мне, благодаря, вероятно, смешению кровей, было много совершенно не северного петушинного задора. И в то интересное время, о котором я собираюсь рассказать, моей главной заботой было — добиться звания «первого силача» на Псковской улице. Звание же это, как известно в мальчишеских кругах всего земного шара, вырабатывается в неустанных боях и подвигах, близких к воинским. И потому синяки и фонари были, к ужасу моей матери, постоянными знаками моих отличий. Одно время мне даже казалось, что у меня сломано то знаменитое ребро, которое у мальчишек считается девятым: от женской половины нашего дома я это, разумеется, скрывал, но перед братьями по-старосолдатски охал, врал, что дух не проходит через горло, кряхтел, и для исцеления они натирали меня бобковой мазью: первое, что было отыскано в чулане. От синяков мы лечились кубебой, запасы которой охранялись, как золотые слитки.
Так шло до несчастной (с нашей детской точки зрения) весны 1875 года.
В один из каких-то северно-прекрасных майских дней выпускаемые классы женских гимназий Ведомства императрицы Марии должны были представляться в Зимнем дворце своей покровительнице и попечительнице Императрице Марии Александровне. В Коломенской гимназии оказался выпускным как раз тот класс, который «вела» моя мать. Вместе с начальницей на приеме в Зимнем дворце должна была присутствовать и «ведущая» классная дама.
Как сейчас помню мою мать в то майское, торжественное утро в каком-то необычайном и совершенно мне неизвестном синем платье (было «для случая» позаимствовано у г-жи Нейдгардт), с завитыми волосами, с институтским шифром на плече, — мать казалась мне красавицей нездешних стран. Она очень волновалась и все натягивала перчатки, чтобы на пальцах не было пустых концов. Уходя из дому, долго молилась, чтобы Бог пронес страшный смотр. Мы знали, что мать поехала в какой-то странный зимний дворец (почему зимний, когда снега нет), в котором какая-то страшная государыня будет смотреть на мать, а мать будет трепетать, как птичка... И поэтому, когда Аннушка понеслась в церковь ставить свечу, мы увязались за ней и долго стучали лбами о каменный пол...
Незадолго до возвращения матери наш дом наполнился ее сослуживцами по гимназии, и не успела мать вернуться, как ее со всех сторон засыпали вопросами:
— Что? Как? Была ли милостива государыня? И какое платье было на государыне? И что она сказала? И как горели ее бриллианты? И целовала ли мать ее ручку? И правда ли, что говорят, будто у нее желтый цвет лица и круги под глазами?
Мать, не успевшая снять платье, рассказывала, сияла от счастья... Из кухни пахло пирогом с мясом и куропатками, накрыли длинной скатертью два стола, все сели за стол и пили белое елисеевское вино, вспрыскивая первый материнский «выпуск».
— Вдруг около меня появилась какая-то маленькая дамочка, очень хорошенькая, с сияющими, как звезды, глазами. Ну прямо звезды! Смотрит на меня, на мой шифр, и спрашивает по-русски, с акцентом: «Какой это у вас шифр?» Я сказала, что екатерининский. «А как фамилия?» Отвечаю: «Олленгрэн». — «Но это ведь шведская фамилия?» — «Да, мой муж шведского происхождения». Вынула записную книжечку и золотым карандашиком что-то отметила: И потом только, от других, узнала, что это — Великая Княгиня, Наследница Цесаревна, Мария Феодоровна! Но какая хорошенькая! И какая простенькая! Прямо влюбилась в нее с первого взгляда!
Выпили за здоровье Наследницы.
Пирог быстро съели, вино до последней капли выпили потом все разошлись, и мать часа полтора утюжила синее платье и потом, вместе с Аннушкой, понесла его к Нейдгардтихе, как говорила Аннушка.
Мы слизали со всех блюдец последний сок от мороженого и, счастливые, пахнущие густым молоком, начали лето, и оглянуться не успели, как зима прикатила в глаза.
И снова — учебный год! И снова, с раннего утра, мамочка — в гимназии! И снова — свобода, но уже осенняя: со множеством соседских яблок, подсолнухов, рябины и медовых сот.
Однажды, после занятий, возвращается сама не своя, лица нет, — и рассказывает Аннушке:
— Ничего понять не могу. Сегодня приезжает в гимназию принц Ольденбургский, вызывает меня в кабинет начальницы и производит допрос. Кто вы, что вы, откуда, почему... Так напугал, что со страху забыла свою девичью фамилию. И только потом вспомнила, говорю: «Оконишникова, дочь адмирала, Георгиевского кавалера»... И спрашиваю: «Зачем все это, ваше высочество?» Он разводит руками, записывает и говорит: «Ничего, дорогая, не знаю. Получил бумагу от Министерства Двора, должен выполнить».
Принц Ольденбургский носил в то время чин, довольно неуклюже выражаемый: «Главноуправляющий женскими гимназиями Ведомства Императрицы Марии и Царскосельской».
Принц уехал, все мало-помалу успокоилось, и вдруг, спустя ровно полтора месяца, у крыльца нашего домика в Коломне останавливается придворная карета. Придворный лакей, в пелерине с орлами, слезает с козел и спрашивает Александру Петровну Олленгрэн. Было воскресенье, мать оставалась дома.
— Это я, Олленгрэн, — ответила она.
И важным тоном, каким говорят слуги в старинных мелодрамах, лакей сказал:
— Вам письмо. Из Аничкова дворца.
И подал большой, глянцевитый, твердый пакет.
— Ответ можете дать словесный, — добавил строго лакей, поджал губы и, сделав бесстрастное лицо, стал осматривать потолок.
Мать не знала, что ей делать с конвертом: разорвать? Страшно: стоит штемпель: «Аничков дворец». Почтительно разрезать? Нет поблизости ни ножниц, ни ножа... А нужно спешить: лакей — с орлами, его не вот-то задерживать можно... Вскрыла шпилькой.
На твердой, слоновой бумаге какая-то неизвестная дама, по имени М.П. Флотова, писала матери, чтобы она немедленно, в присланной карете, приехала по очень важному делу в Аничков дворец. Если не может приехать сегодня, то за ней будет прислана карета в будущее воскресенье, ровно в 12 с половиной часов дня.
У матери затряслись руки, губы, и она еле могла выговорить:
— Буду в следующее воскресенье, в 12 с половиной часов дня. Лакей почтительно выслушал, был секунд пять в каком-то ожидании, потом крякнул и ответил:
Поклонился, вышел и, с замечательной легкостью вскочив на козлы, актерским уверенным жестом поправил завернувшуюся пелерину с орлами. Лошади тронули, и пустая, блестящая карета, такой никогда не видывали в Коломне, покачиваясь на длинных рессорах, блистая железными, до серебра натертыми шинами, двинулась в обратный молчаливый путь. Мы проводили ее теми глазами, какие бывают на картинах у людей, созерцающих крылатую фортуну катящую на одном колесе...
Переполох в Коломне был невероятный. Шли разговоры о тюрьме, о наследстве и, почему-то, о севастопольской войне.
Почему мать не поехала во дворец сразу? Потому что не было приличного платья.
Прижав к груди таинственное дворцовое письмо, она понеслась к своему доброму гению, к начальнице Коломенской гимназии. Н.А. Нейдгардт. Та проявила желание пойти на самые щедрые жертвы и сказала, что весь ее гардероб к услугам матери. Было выбрано добротное, строгое и достойное платье, была вызвана портниха, которая что-то ушила, что-то пришила, где-то сделала новые стежки, присадили пуговицы, проутюжила через полотенце... Мать лишилась сна, аппетита, плакала по ночам и каждую ночь во сне видела длинные волосы.
И в следующее воскресенье, ровно в 12 часов, та же карета остановилась у нашего подъезда и тот же лакей с орлами вошел в дом и почтительно доложил матери:
— Экипаж ждет-с.
И мать, делая торопливые кресты, поехала, бледная как смерть.
ИЗ 1001 НОЧИ
В бытность и службу мою в Петербурге мне часто приходилось бывать в балете, и при разъезде из театра я очень любил наблюдать, особенно у молодежи, ту восторженную лучистость глаз, которая всегда бывает после таких волшебных вещей, как «Лебединое озеро», «Жизель», или после опер «Кармен», «Демон». В провинции это бывало после пьес чеховских. Вот с таким восторженным взглядом вернулась домой моя мать после первого посещения Аничкова дворца.
Ее привезли обратно в той же придворной карете, в какой она уехала. Тот же гордый и величественный лакей почтительно отворил ей дверцу и почтительно же поддержал ее за локоть. И теперь уже мать не растерялась и успела что-то сунуть ему в руку. Ощутив шелест бумаги, величие склонилось перед скромностью, и мы, дети, корректно наблюдавшие эту сцену со стороны, поняли, что не нужно бежать и тормошить мать, а нужно выждать, пока она не взойдет на крыльцо и не войдет в дом, — и вообще нужно держать себя скромнехонько, пока волшебный и таинственный экипаж не скроется из глаз.
Когда мы проникли в дом, то увидели следующую картину: мать в своем великолепном, с чужого плеча, платье сидела на стуле и как-то беззвучно повторяла:
— Сказка, сказка. Аннушка, скажи, ради Бога, сплю я или нет?
— Да не спите, барыня, а в полном параде. Сейчас пирожок кушать будем. Увидев нас, мать беззвучно заплакала и сказала:
— Услышал Бог. Услышал Бог папочкину молитву. Хороший человек был ваш папочка. Бог правду видит, да не скоро скажет.
Потом все в том же великолепном платье, которое у меня и до сих пор не выходит из головы, она стала перед образами на колени, собрала нас вокруг себя справа и слева, обвила всех руками, как цыплят, особенно тесно прижала к себе меня, самого малого, и все читала молитвы, совсем не похожие на те, что я знал. Слезы ручьем текли из ее глаз, хотелось их вытереть, и не было платочка, и первый раз в жизни я пожалел о том, какой я грязный и непослушный мальчишка: всегда вытираю нос рукавом, а платочки, которые подсовывает Аннушка, презрительно забрасываю в чулан: в карманах места мало и, когда вынимаешь платок, то вместе с ним вываливаются свинчатки, а если засунешь в карман живого воробья, воробью не хватает от платка воздуха и он начинает икать, — и вообще я всегда был против лишних вещей в хозяйстве.
Что же случилось?
Мать на этот раз хранила упорное молчанье.
И вот вечером к нам собрались гости: пришла сама Нейдгардтиха (не потребовавшая на этот раз немедленного возвращения платья), пришли еще какие-то кислые и худые женщины с лорнетами (классные дамы, товарки матери по службе), пришел кладбищенский протопоп, специалист по панихидам, пришел сам господин Александров, наш сосед, владелец каретного заведения и несметный богач (появление придворной кареты его лишило сна). Все это расселось, торжественное, чинное и отменно благородное, вокруг чайного стола (за добавочной посудой опять бегали к Нейдгардтихе), и тайная, приветливо-улыбающаяся зависть была разлита в глубине всех глаз, как в последней картине «Ревизора». Оказалось, что мать привезли в Аничковский дворец, привели в какой-то вестибюль, в котором было четыре двери, и потом бравый солдат поднял ее на лифте в четвертый этаж. Лифт поднимался на веревке, и эту веревку, с почтительно-равнодушным лицом, тянул солдат. На площадке четвертого этажа стоял в ожидательной позе старый лакей в белых чулках и с золотым аксельбантом: это был лакей М.П. Флотовой, по фамилии Березин. Березин почтительно поклонился матери и не сказал, а доложил, что ее «ждут-с ее превосходительство Марья Петровна Флотова». Мать помянула царя Давида и всю кротость его, а лакей правой ручкой приоткрыл половинку двери и, словно боясь прикоснуться к матери, пропустил ее впереди себя, провел по каким-то незначительным комнаткам и, наконец, ввел в гостиную, казавшуюся небольшой от множества мебели, фотографий и цветов. И всюду ощущалось тяжеловатое амбре, как в восточных лавках, торгующих духами.
Не успела мать дух перевести, как, шурша бесчисленными юбками, с пышным тюрнюром позади (тюрнюры были только что присланы из Парижа и имели огромный успех), вошла немолодая, но как-то не по-русски свежая женщина: кожа у нее была цвета полированной слоновой кости.
— Вы госпожа Олленгрэн? Шведка? — спросила она приветливо и, сквозь особую, вырабатывающуюся у придворных беззаботно-ласковую улыбку, внимательно и деловито, с немедленной записью в мозгу, осмотрела материнское лицо, задержавшись на глазах, и оттуда перешла на руки, к пальцам, — точнее сказать к ногтям.
— Вас на весеннем приеме в Зимнем дворце заметила Великая Княгиня Мария Феодоровна, супруга Наследника Цесаревича. Она предлагает вам заняться воспитанием и первоначальным образованием двух своих сыновей, Великих Князей Николая и Георгия. Они еще неграмотны. Николаю — 7 лет, Георгию — 5. Великая Княжна Ксения вас не коснется. Ей — три года, она с англичанкой.
Мать потом вспоминала: ее от этого предложения как обухом по голове ударило и в лицо «ветрами подуло».
— Как? — воскликнула она. — Мне заниматься воспитанием Великих Князей?
— Да, — подтвердила госпожа Флотова, — именно на вас пал выбор Великой Княгини-матери.
— Но я не подготовлена к такой великой задаче! — говорила мать. — У меня нет ни знаний, ни сил.
— К великой задаче подготовка начнется позже, лет с десяти, — спокойно возражала госпожа Флотова, — а пока что детей нужно выучить начальной русской грамоте, начальным молитвам. Они уже знают «Богородицу» и «Отче Наш», хотя в «Отче» еще путаются. Одним словом, нужна начальная учительница и воспитательница, и, повторяю, высокий выбор пал на вас. Все справки о вас наведены, референции получены блестящие, и я не советую вам долго размышлять. Вам будет предоставлена квартира на Детской половине, на готовом столе, — едят здесь хорошо, — отопление, освещение и 2000 рублей годового жалования.
Как ни заманчивы были эти обещания, мать решительно отказалась, ссылаясь на страх, великую ответственность и на неподготовленность. — Тогда, — сказала Флотова, — посидите здесь, а я пойду доложить. Минут через пять она вернулась в сопровождении милой и простой дамы, которая разговаривала с ней на весеннем приеме в Зимнем Дворце. Это была Великая Княгиня Цесаревна Мария Феодоровна. Мать сделала глубокий уставной реверанс, которому их обучали в институте, и поцеловала руку.
— Вы что же? Не хотите заняться с моими мальчиками? Уверяю вас, что они — не шалуны, они очень, очень послушные, вам не будет слишком трудно, — говорила с акцентом Великая Княгиня, и мать, потом десятки раз рассказывая об этом, неизменно добавляла: «и из ее глаз лился особый сладкий свет, какого я никогда не видела у других людей».
— Но, Ваше Императорское Высочество, — взмолилась мать, — ведь это же не обыкновенные дети, а царственные: к ним нужен особый подход, особая сноровка!..
— Какая такая «особая» сноровка? — вдруг раздался сзади басистый мужской голос.
Мать инстинктивно обернулась и увидела офицера огромного роста, который вошел в комнату незаметно и стоял сзади.
Мать окончательно растерялась, начала бесконечно приседать, а офицер продолжал басить:
— Сноровка в том, чтобы выучить азбуке и таблице умножения, не особенно сложна. В старину у нас этим делом занимались старые солдаты, а вы окончили институт, да еще с шифром.
— Да, но ведь это же — наследник Престола, — лепетала мать.
— Простите, наследник Престола — я, а вам дают двух мальчуганов, которым рано еще думать о Престоле, которых нужно не выпускать из рук и не давать повадки. Имейте в виду, что ни я, ни Великая Княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу и ни о каких престолах не думать. Вы меня понимаете?
— Понимаю, Ваше Высочество, — пролепетала мать.
— Ну а раз понимаете, то что же вы, мать четверых детей, не сможете справиться с такой простой задачей?
— В этом и есть главное препятствие, Ваше Высочество, что у меня — четверо детей. Большой хвост.
— Большой хвост? — переспросил будущий Александр Третий и рассмеялся, — правильно, хвост большой. У меня вон трое, и то хвост, не вот-то учительницу найдешь. Ну мы вам подрежем ваш хвост, будет легче. Присядем. Рассказывайте про ваш хвост. Мать начала свой рассказ.
— Ну, тут долго слушать нечего, все ясно, — сказал Александр Александрович, — дети ваши в таком возрасте, что их пора уже учить. Правда?
— Правда, — пролепетала мать, — но у меня нет решительно никаких средств.
— Это уже моя забота, — перебил Александр Александрович, — вот что мы сделаем: Петра и Константина — в Корпус, Елизавету — в Павловский Институт.
— Но у меня нет средств! — воскликнула мать
— Это уж моя забота, а не ваша, — ответил Александр Александрович, — от вас требуется только ваше согласие. Мать в слезах упала на колени.
— Ваше Высочество! — воскликнула она, — но у меня есть еще маленький Владимир.
— Сколько ему?— спросил Наследник. — Восьмой год.
— Как раз ровесник Ники. Пусть он воспитывается вместе с моими детьми, — сказал Наследник, — и вам не разлучаться, и моим будет веселей. Все лишний мальчишка. — Но у него характер, Ваше Высочество.
— Какой характер?
— Драчлив, Ваше Высочество...
— Пустяки, милая. Это — до первой сдачи. Мои тоже не ангелы небесные. Их двое. Соединенными силами они живо приведут вашего богатыря в христианскую веру. Не из сахара сделаны.
— Но... — попыталась вмешаться Мария Феодоровна. Наследник сделал решающий жест.
— Переговоры окончены, — сказал он, — завтра же вашими старшими детьми займутся кому следует, а вы времени не теряйте и переезжайте к нам.
— Но у меня еще Аннушка.
— Что еще за Аннушка?
— Прислуга моя многолетняя.
— На что вам прислуга? У вас будет специальный лакей.
— Ваше Высочество, но я к ней привыкла.
— Отлично, если привыкли, но имейте в виду, что за Аннушку я платить не намерен. Это дело мне и так влетит в копейку. Вы меня понимаете?
— Ваше Высочество, это уж мой расход.
— Ах, если это ваш расход, то я ничего не имею. Итак, сударыня. Да бросьте вы эти коленопреклонения. Учите хорошенько мальчуганов, повадки не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени в особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне, а я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся, — пожалуйста. Но доказчику — первый кнут. Это — самое мое первое требование. Вы меня поняли?
— Поняла, Ваше Императорское Высочество.
— Ну, а теперь до свидания, — надеюсь, до скорого. Промедление — смерти безвозвратной подобно. Кто это сказал?
— Ваш прадед, Ваше Высочество.
— Правильно, браво, — ответил Наследник и, пропустив впереди себя Цесаревну, вышел из комнаты.
Положите около кота миллион долларов, — он и не взглянет на них: разве что понюхает. Так было и со мной, когда мне сказали, что я буду воспитываться вместе с великими князьями. Кроме огорчений и душевных мук это мне ничего не принесло. Что такое были для меня великие князья? «Князья», — это лица довольно неказистого, но в общем занятного вида: они ходили по Коломне с полосатыми мешками за спиной и кричали:
— Халат, халат, халат...
Это, пожалуй, даже интересно, — воспитываться с такими князьями, если они моего возраста, но... они — великие. Великие! Что такое великие? Это значит огромные. Недавно Аннушка читала нам сказку о герое, которого звали: «не мал человек, под потолок ростом». Что, если мои будущие князья — тоже не мал человек, под потолок ростом? Что я буду делать? Какие перспективы ждут меня? На своей Псковской улице я, худо-бедно, прохожу уже в третьи силачи. Это стоит трудов, хлопот, превеликой боли в девятом ребре, но ничего не поделаешь: всякая карьера требует определенных усилий. Но ведь если я попадаю в общество «великих» князей, не мал человек, под потолок ростом, то ведь тут и к бабке ходить не нужно: это ежедневная обеспеченная мука. А что, если эти князья из породы Гулливеров? Я недавно видел книжку с картинками: стоит огромный верзила в треугольной шляпе и держит на ладони маленького человечка с стрекозиными ножками и презрительно смотрит на него. Дунет, и где твоя душа? Я не спал ночами, плакал, укрывался с головой от видений и молил Бога, чтобы он отдалил тот час, когда нужно будет навсегда, навеки покинуть эту милую, славную, уютную, родную, то густо-пыльную, то обильно-снежную Псковскую улицу. И та карета, которая подкатывала к нашему дому два воскресенья подряд с таким замечательным лакеем, уже казалась не чудесной, а злой каретой, наказаньем Божиим, посланным мне за великие грехи.
Дома шел полный разгром, Аннушка сбилась с ног, стирала, гладила, пришивала какие-то пуговицы, мамочка приходила со службы взволнованная, ничего не ела, а приносила какие-то книжки, очень толстые, в переплетах, быстрыми глазами читала страницу за страницей, нервно со щелком перелистывала, что-то записывала в тетрадь и все говорила, ни к кому не обращаясь:
— Господи! А вдруг осрамлюсь? А вдруг опозорюсь? Ведь великая наука нужна, наука!
Потом все было брошено, и она уехала с братьями в Псков, определять их в Военную Гимназию, мы с Аннушкой провожали их и на вокзале перед поездом горько плакали. Петра приняли, а у Константина оказалась грыжа, его снова привезли в Петербург, он приехал убитый и растерянный, и опять была суетня. Его, в конце концов, определили в Петербургскую первую классическую гимназию, на полный пансион, и сейчас же остригли. Сестру Елизавету поместили в Павловский Институт, что на Знаменской улице.
Что делалось в доме, что делалось, — и все это из-за каких-то «великих» князей, будущих моих мучителей и истребителей. Горька была моя судьба. Но что делать? Плакать? Мужское достоинство не позволяло. Что скажет Псковская улица? Сопротивляться? Все равно, — свяжут и свезут, да еще, пожалуй, в княжеский полосатый мешок засунут, как кота: иди разговаривай из мешка. Бежать из дому в Америку? И эта мысль начала серьезно занимать меня, но пока я накапливал хлеб на дорогу, деньги (уже было «зажато» семь копеек), — подъехала карета, — не та, не придворная, а обыкновенная, черная, свадебная, с окошечком позади, меня взяли за руку, помолились Богу, посидели на стульях, всплакнули, вздохнули, почему-то поцеловались с Нейдгардтихой, потом залезли на скользкое сиденье с пуговочками, качнулись, тронулись, лошади дружно цокнули, — и тут я понял, что значит, когда говорят: пропала твоя головушка.
— Боже мой, Боже мой, Аннушка, в какие места едем, — говорила мать, и я ясно видел, что ее тоже трясло от страха.
Вообще от всех этих новостей, от разлук с братьями и сестрой, от срочного изучения педагогики (после узнал), — она похудела, стала молоденькая и худенькая, бедная моя милая ласковая мамочка. Как тепло и хорошо было с ней в этой карете, и ехать бы да ехать далеко, далеко, хоть на край света, хоть в Америку, — только не в этот противный, враждебный, таинственный дворец. Мне казалось, что как въеду в этот дворец, так сейчас же меня пришпилят к столбу и выпорют до двадцатого пота. Спасибо, что кубебу и мазь тайным образом прихватил с собой для облегчения.
И долго, долго так тянулись мы через весь Петербург, мимо каких-то высоченных домов, которых я никогда раньше не видал, при другой обстановке они показались бы мне страшно интересными, а теперь я понял только одно: много булочных с золотыми кренделями. Потом все стало гуще и гуще: какие-то невиданные народы, кучера кричат, наш тоже начал орать и оглядываться, порядку никакого, мимо стекла то и дело — лошадиные морды, цапнет за нос, а потом иди доказывай. Прижался я к мамочке и одно молил: «Пронеси, Господи». Учила в свое время Аннушка «Живому в помощи», — не учился, дурак, а теперь бы — находка. «На аспида и василису, — шептал я дрожащими губами, вспоминая Аннушкины уроки: — на лева и змею», — и забыл дальше. Про лошадей в молитвах ничего не было, — может, что и было, но к концу, а до конца никогда не доходил, старая телятина, — выругал себя я, по примеру коломенского водовоза.
— А вот и дворец! — затрепетав, сказала мамочка.
Я сунулся глазами в окно и увидел много красного. Прошло много лет с тех пор, но и теперь, когда при мне говорят слово «дворец», — в моих глазах вырастает всегда какая-то большая красная путаница.
Карета остановилась, подошел какой-то солдат, что-то спросил, ему что-то ответили, карета опять тронулась, и потом, через много времени я понял, что мы приехали с Фонтанки.
Вылезли из кареты, и первое, что я увидал, — был огромный дом с выступами: конечно, только в таком доме могут жить не мал человеки под потолок ростом. Пока что около нас суетились обыкновенные люди, с обыкновенными руками и головами, но одетые как в цирке. Больше всех волновался старик, похожий на генерала, все время шлепавший губами, весь в медалях и трясущихся крестах: потом я узнал, что это был знаменитый пристав Хоменко, единственный статский советник среди полицейского офицерства, любимец Марии Феодоровны. Он целый день стоял на посту у Аничкова дворца. Когда приезжала Мария Феодоровна, он снимал фуражку и кланялся, касаясь фуражкой земли. Нередко был приглашаем к великокняжескому столу и оставил после смерти состояние около трех миллионов.
Люди из цирка понесли наши чемоданы, мы вялыми ногами пошли за ними и очутились в подъезде, в котором было четыре двери. Эти двери, как я потом узнал, вели на двор, на ту часть дворца, которая называлась «детской половиной», в сад и на кухню.
Вслед за носильщиком мы втроем: я, мамочка и Аннушка пошли на детскую половину. Детская половина была расположена в бельэтаже. Чувство, которое у меня тогда было, потом всегда повторялось по приезде в гостиницу: куда-то тебя поселят? Все трое, мы явно робели: мамочка и Аннушка крестились мелкими крестиками, а я боязливо оглядывался по углам: а вдруг выйдет, а вдруг шагнет и сразу приступит? Настроение было ужасное, воображение работало, представлялись всякие картины, какие-то звуки казались тресканьем разрываемых человечьих костей, я все ближе и ближе прижимался к мамочкиной юбке и, уж если кто-нибудь будет нас есть, пусть начинает с Аннушки: она все хочет быть Христовой невестой и пострадать за веру.
В коридоре было много дверей и печных заслонок, поражала удивительная чистота, — такая чистота, что все мы старались ступать неслышно, стараясь только чуть прикасаться к паркету. Наконец в какую-то дверь входим, и я сейчас же ищу: есть ли в двери ключ?
Квартира наша состояла из трех поместительных комнат: гостиная, столовая и спальня. Из столовой шла винтообразная лестница в Аннушкины две маленькие комнатки. Мебель была хорошая, повести рукой — скользкая (полушелковая). Освещение комнат у нас, как, впрочем, и во всем дворце, было масляное. Лампы были необычайно занятные и затейливые, с каким-то механизмом, похожим на часовой. Масло наливалось душистое, и в комнатах всегда стояло то, может быть, «амбрэ», о котором с таким восхищением говорит в «Ревизоре» Анна Андреевна. Каждое утро приходил к нам ламповщик, и, как говорили, «заправлял» лампы, причем все это делал с необыкновенной отчетливостью и проворством. Я всегда завидовал его «химическим движениям» и любил украдкой притрагиваться к его замшевым тряпкам и круглым щеткам, которыми он протирал стекла. И вообще и сам ламповщик был очень интересен, быстр в движениях. Ендова, в которой он носил масло, была какая-то аппетитная, глянцевая. Была совершенно восхитительна легкая и приятная струя масла, прозрачного, упругого, лоснистого: так бы и смотрел на нее, наслаждаясь, целыми днями. Этот ламповщик прямо сводил меня с ума, и я, по его примеру, называл Аннушку «деревней». Мне кажется, что из-за этого ламповщика Аннушка потом и ушла в «иоаннитки». Ламповщик, занимаясь делом, всегда чуть слышно напевал: «Глядя на луч пурпурного заката» — или что-то в этом роде. Я это говорю потому, что эту страсть к наливанию ламп я передал потом Ники, будущему Императору, и когда приходил час игр, то первое, что мы изображали, — был ламповщик и все его манипуляции, — причем в этом отношении все рекорды наблюдательности и подражательности проявлял маленький Жоржик, — будущий Георгий Александрович. Молчаливый, робкий, — он чем-то напоминал приятного зверька, пожалуй, обезьянку, с необычайной запоминаемостью и точностью воспроизведения. Он изображал всех: и папу, и маму, и Диди (так они называли мою мать), и Аннушку. Все эти штуки он проделывал в «игральной» комнате и только в своей компании, причем обязательно за вознаграждение: чтобы его, например, два раза пронесли с припрыжкой на спине вдоль стен (это называлось «ездить на закорках») или что он будет кучером, а мы — ленивыми лошадьми, которых кучер подгоняет кнутом: при каждом кнуте мы обязаны были вздрагивать, трепетать кожей, и переходить в галоп. Или требовал, чтобы мы орали, как ослы на заре, и чтобы на этот рев прибежала испуганная Диди. Этот маленький актер понимал, что истинное искусство должно оплачиваться материальными благами и только в этих условиях оно не является пустым занятием.
Ники, как я потом понял, был существом очень наблюдательным и зорким, и, когда Жоржик представлял, как Березин открывает дверь или как М.П. Флотова держит голову набочок, разговаривая с maman, Ники упивался точностью сходства. И, чтобы получить это наслаждение, он шел на самые несурьезные требования Жоржа. Жорж однажды похвалился, что он может показать, как маме кланяется Хоменко, но условие: мы должны съесть по полложке песку. Я отказался, но Ники с заранее смеющимися глазами съел и к вечеру был болен, и пришлось вызвать Чукувера. В «игральной» комнате всегда была горка песку.
Чукувер жил в том же коридоре, что и мы. Это был не то лекарь, не то фельдшер. Его дело было оказывать первую помощь до прибытия врача. Если мне не изменяет память, всегда приезжал Бертенсон, но до прибытия врача строго запрещалось принимать какие бы то ни было лекарства.
Этому Чукуверу, между прочим, завидовал весь дворец. Чукувер был единственный человек, который, по общему мнению, ничего не делал. Жизнь его, впрочем, окончилась печально: его раздавило насмерть в гармонии поезда при крушении на станции Борки, в 1888 году. Впрочем, я отклонился несколько в сторону.
Против нашей квартиры, в том же коридоре, были запасные комнаты, которые потом приспособили под квартиру генерала-адъютанта Г.Г. Даниловича, который был назначен к обучению Ники, когда ему исполнилось десять лет и когда миссия моей матери была окончена. Ники терпеть не мог этого наставника, чрезвычайно сухого «человека в футляре», и когда с течением времени генерал Данилович скончался, то Император Николай послал ему венок, но сам на похороны не приехал.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Первая ночь, проведенная мной во дворце, была уныла и тревожна. Больше всего мне понравились комнаты Аннушки и винтовая замысловатая лестница, Похожая на штопор. Я убеждал мать поменяться: пусть Аннушка живет внизу, мы будем жить вверху. Тайная мысль была такова: войдет не мал человек, под потолок ростом, найдет первую Аннушку, убьет ее, уморится и оставит нас в покое: по винтовой лестнице подниматься ему будет нелегко, узко, подумает, подумает, да и скажет: «А черт с ними, в другой раз!», а там может все случиться, авось забудет. Но мамочка, выслушав мои предложения, назвала меня дурачком и уложила спать рядом с собой. Разумеется, я ни словом не обмолвился о тех тайных причинах, которые так беспокоили меня. Постель была невероятно удобная, чуткая к движениям, я быстро успокоился под теплым маминым бочком, укачался и трех минут не прошло, как уже был свет, пахло кофеем и сдобной булкой. А потом явилась какая-то портниха и начала мерять меня ремешком и спорить с мамой о длине штанов, рукавов и о том, сколько оставить в запас. Речь шла о матросском костюмчике. Возможно, что меня хотели посадить на корабль, это было бы чудесно, но при всех расспросах толку у женщин добиться было невозможно.
Когда пришло время, мамочка, изнемогая от усталости, беспрестанно крестясь, сказала:
— Ну, а теперь пойдем.
— Куда?
— Знакомиться с великими князьями. Помни, что нужно быть хорошим мальчиком, вежливым, достойным. Помни, что не каждому выпадает такая честь. Перед Марьей Петровной шаркни ножкой, вот я кладу тебе в карман носовой платочек, ничего не смей рукавом делать... Покажи, как ты шаркнешь ножкой.
Я хочу шаркнуть ножкой, а в ногах — пуды. Прямо старик какой-то, тридцатилетний, отживший жизнь. Ничто мне не мило, хочется, как девчонке, реветь, бухнуться на пол, тарабанить ногами, пусть идут, готов на любую порку, любой березой, но только без ненужных знакомств. Я до сих пор был доволен своей жизнью, никаких дворцов мне не нужно, пустите меня на Псковскую улицу: там ни винтовых лестниц, ни этих смешных чертей из цирка. И не понимаю, чего это дурила Аннушка сияет, как самовар, трет мне руки твердым духовитым мылом, ковыряет под ногтями, как будто черные ногти кому-то помешать могут.
И вот берет меня мамочка под руку и ведет. Так, вероятно, Авраам вел Исаака. С той разницей, что Исаак не знал, куда его ведут, а Владимир Константинович господин Олленгрэн отлично знает, куда и зачем его ведут. С невероятной жестокостью мать рассовала своих детей кого куда, а младшего сама ведет на жестокое испытание. И тут впервые у меня пошатнулась вера в человека. Перочинный нож на всякий случай я с собой прихватил и всю дорогу ощупывал его в кармане. Жизнь свою решил дешево не отдавать.
Вижу, в отдалении стоит один из циркачей и ждет. Подходим — кланяется нам. Думаю: «мягко стелет». Я пословицу эту хорошо, по Псковской улице, знал. Сам не раз людей заманивал и потом топил баню. Опыт есть.
Циркач ведет, отворяет двери, входим в комнату и видим: стоит сероватая старуха и с ней два мальчика в матросских рубашечках.
— Как тебя зовут?
— Владимир Константинович.
— Фу, какой важный.
Мама конфузится и толкает меня в бок и подсказывает: «Володя».
Я решил не сдавать позиций и стою на своем:
— Владимир Константинович.
Расчет простой: Владимира Константиновича не так-то скоро возьмешь в работу, как какого-то Володю. Стою на своем и в третий раз повторяю:
— Владимир Константинович.
Серая старуха идет на уступки и отвечает не особенно по-русски, а с каким-то присвистом, как у немки-булочницы:
— Ну, хорошо, — говорит, — Владимир Константинович, а вот это — Николай Александрович, а это — Георгий Александрович, великие князья, с ними учиться и жить будешь.
Я сию же минуту закатил серой старухе персидский глаз и сказал:
— Это великие князья? Ха-ха, смеялася Жанетта!
Серая старуха затряслась животом и сунула нас всех троих в соседнюю комнату, и в голове мелькнула мысль, что сейчас оно и начнется.
Огляделся: комната волшебная. Ничего подобного сроду не видывал. Во-первых, идет по полу железная дорога, маленькая, но настоящая, с рельсами, с сторожевыми будками, с тремя классами вагонов, стоят полки солдат с киверами, с касками, казаки в шапках, а вот лошади с гривами, верблюды с горбами, а вот Петрушка, вот медведь, вот Иван-дурак в клетчатых брюках, а вот барабан, ружья в козлах, труба с кисточкой, гора песку. Глаза разбежались. Спрашиваю:
— Чье это?
Старшенький матросик отвечает спокойно:
— Наше.
— Не врешь?
— Не вру.
— Пустить железную дорогу умеешь?
— Умею.
— А ну, пусти.
Матросик завел ключиком, паровоз побежал, из будки вышла сторожиха, замотала флагом, на платформе появился пузатый начальник, зазвонил звонок, и тут я впервые понял, что во дворце могут делаться чудеса.
У меня мороз по коже пошел, а мальчики в матросках стоят и не удивляются.
— Вы — великие князья? — спросил я старшенького.
— Да, — ответил тот.
Я расхохотался.
— Какие же вы великие, когда вы — маленькие?
— Нет, мы — великие князья, — серьезно, с верой в правоту, настаивал старшенький.
Второй молчал, смотрел на меня во все глаза и сопел.
— Хорошо,— сказал я, становясь наизготовку,— если вы — великие князья, тогда, хочешь, вы оба на леву руку.
— Мы не понимаем, — сказал старшенький.
— Чего ж не понимать? — сказал я. — Вот видишь, правую руку я завязываю поясом, а левую на вас обоих.
— Ты хочешь драться?
— Разумеется.
— Но мы на тебя не сердиты.
— Тогда я — первый силач здесь.
— Хорошо, — сказал примирительно старшенький, — а когда я рассержусь, мы попробуем.
Он меня потряс, этот мальчуган, чистенький, хорошенький, с блестящими глазками: на первый взгляд — девчонка. Смотрит прямо, улыбается, испуга не обнаруживает. Опыт Псковской улицы мне показал, что вот такие девчонко-мальчики оказываются в бою иногда серьезными бойцами, и я с первой минуты намотал это себе на ус.
И вдруг отворятся дверь, и в комнату шасть! Не мал человек, под потолок ростом, и всем существом я понял, что мне была расставлена ловкая западня с этими якобы великими князьями и заколдованной комнатой.
Вот пришел настоящий великий князь и сейчас начнет: держись, Владимир Константинович!
Маленький подбежал к не мал человеку и сказал, прижимаясь к нему:
— Он нас бить хочет.
— За что? Вы уже поссорились?
Не мал человек обратился ко мне, и я поспешил с ответом:
— Нет, мы не ссорились.
Старшенький стал на мою сторону и добился истины.
— Нет, нет, — сказал он два раза «нет»: так обыкновенно говорят два раза девочки. — Нет, нет, мы не ссорились, но он говорит, что он — первый силач здесь, а когда я рассержусь, тогда мы подеремся и узнаем. Я, если не рассержусь, драться не могу.
— И правильно, — сказал не мал человек, — зачем же даром тратить силу? Даром только дураки дерутся. А ты чего на них сердишься?
— А чего они говорят, что они великие князья? Они — маленькие мальчишки и больше ничего.
— А я — великий князь, как по-твоему?
— Вы-то? — ответил я с уважением, глядя на него в гору. — Хо-хо!
Я увидел, что не мал человек радостно засмеялся, и у меня гора свалилась с плеч: я почувствовал, что мы с ним подружим, надо только хорошо начать дело. Он был огромен, светел, если щелкнет по лбу, кость на мелкие части, и зла в глазах нет, он был приятен, стоит за добрые дела и всегда даст пощаду.
В маленьком сердце есть собачье чутье, я не ошибался, возымел сразу большое доверие и от счастья начал хохотать, хватаясь за живот, и рассмешил не мал человека до слез.
— Он не честный, — сказал старшенький, указывая на меня, — он завязывает правую руку и хочет с нами обоими драться одной левой.
— Что? Что? — спросил не мал человек, не поняв сразу.
— Я на это не согласен, — тараторил старшенький, — драться, так обеими.
— Молодец, Никенька, молодец, правильно, бой должен быть равным, без скидок. Нет, брат, — обратился он ко мне, — ты свои шуточки с левыми руками забудь, здесь люди честные и на скидки не пойдут. Драка так драка. Зуб за зуб, кость за кость. Других условий мы не терпим. Фирма честная. Молодец, Ники! Хвалю. Но твою храбрость тоже хвалю, — сказал он мне, — вырастешь — офицером тебя сделаем. Хочешь быть офицером?
— Генералом хочу.
— Хо-хо, — одобрительно сказал не мал человек, — смотри, порох нужен на генерала.
— Порох есть, — ответил я, ободрившись и чувствуя к не мал человеку огромное доверие.
Он опять раскрыл рот и начал смеяться так, что в комнату вошли удивленные женщины.
— Ты доволен, Александр? — спросила какая-то новенькая, которой я еще не видел, и, продолжая смеяться, не мал человек ответил ей что-то не по-русски.
Всем сделалось необыкновенно весело, я увидел, что мама радуется, а серая старуха сияет всем ртом и причмокивает. Я опять-таки верхним чутьем почувствовал, что от этой серой старухи может поступать большая конфета: она была насквозь конфетная. Дело пошло как будто ничего.
Странное дело: с тех пор прошло уже шестьдесят пять лет. Много утекло воды, и если бы Государь Николай Второй был жив, то он был бы такой старый, как я. Всю жизнь он был милостив и благосклонен ко мне, выручал меня в тягчайших обстоятельствах моей жизни. Мать моя после окончания своей воспитательной работы была назначена начальницей Василеостровской женской гимназии и имела свободный, почти семейный доступ к Государю. Надо только было позвонить к обер-гофмаршалу, и Государь принимал ее по первой просьбе, и если ей нужно было подождать, то ждала она не в приемной, а у него в кабинете, около его письменного стола. Он обыкновенно говорил:
— Милая Диденька, посидите, пожалуйста, а мне нужно прочитать вот эти еще бумаги. Может, хотите покурить?
Он знал, что мать терпеть не могла табаку и всегда притворно сердилась на эти приглашения. Она уходила к окну, отворяла раму и садилась там, развернув газету, а государь опять шутил:
— Вы там не очень-то на воздусях, а то протянет сквознячок, схватите насморк, чихать будете. А это как-то не походит к вашей должности. Не солидно.
— А вы, Никенька, не отвлекайтесь, читайте скорее ваши бумаги, а то мне некогда.
— В самом деле? Работы много?
— Я думаю, что много.
— Ну, ну, я сейчас. Ах, как они мне надоели, эти бумаги!
— А чего это перо ваше так скрипит?
— Просто паршивое перо. Некому досмотреть.
— Следующий раз принесу хороших перьев.
— А что вы думаете, Диденька? Буду очень благодарен. Опять начиналось шуршание бумаг.
— Страшно медленно пишу. Это ваша вина, Диди. Это вы мне почерк ставили.
— Медленно да четко, — огрызалась мать,— никто не скажет, как курица лапой.
— А вот когда Витте читает мои письмена, то всегда криво улыбается, и мне кажется, что он думает: «бабий почерк».
— И ничуть! — вспыхивала мать. — И ничуть! Я давала ваш почерк графологам.
— Ну? И что?
— Все в один голос сказали: ясная трезвая голова, всегда логическая. Скрытная.
— Скрытная?
— Да.
Молчание.
— Да в нашем ремесле иначе нельзя, — следует не сразу ответ. — Ну вот готово. Перекочевывайте сюда, Диди. В чем дело? Опять прошения? Опять по мою душу? Много? Все многосемейные? Нравоучение?
Он сам берет из материнских рук ридикюль и начинает доставать оттуда вчетверо сложенные бумаги. Мать начинает жаловаться на табачный дым.
— Да разве это дым, Диди? Это же ладан, — говорит, шутя, Государь.
— Стыдно называть ладаном эту гадость! Ладан — священная вещь.
— Ну-ну, не буду. Сколько там душ?
— Да вот у этой пять.
— Пять? Ну дадим ей пять тысяч.
— Много, ваше величество. Куда столько?
— Какая вы жадюга, Диди! Что ж, царь не может дать бедной женщине пяти тысяч?
— А я говорю — много.
— А я в порядке высочайшего повеления приказываю вам всеподданнейше молчать.
Мать в притворном испуге зажимала рот, а Государь говорил:
— Ага! Когда-то я вас боялся, а теперь вы дрожите от раскатов моего голоса. Времена меняются, Диди? А?
Начальница гимназии, по закону, не имела права освобождать учениц от платы. Она должна была представлять их прошения в Опекунский Совет Ведомства Императрицы Марии, со своим заключением, и только из Опекунского Совета получалось распоряжение: освободить от платы или нет. Мама моя никогда этого не делала. Она эти прошения сохраняла у себя и при поездке к Царю брала их с собой. Царь самолично брал у моей мамы ридикюль, вынимал оттуда все прошения и на каждом из них писал сумму, какую она находила нужным дать той или другой семье. Затем подсчитывал общую сумму денег, и на этом работа его кончалась. У матери было такое впечатление, что ему нравилось отвлечься от больших деловых забот и заняться такими пустяками. В конце беседы он, всегда шепотом, просил никому ни слова не говорить о его помощи.
Мне доподлинно было известно, что за все 22 года деятельности моей мамы как начальницы гимназии ни одно прошение об освобождении от платы не было представлено в Опекунский Совет. Это порождало удивление этого Ведомства, куда ежегодно от всех женских гимназий поступало огромное число таких ходатайств. Но мама моя, памятуя приказ Царя, никогда и никому не говорила, что это дает он.
Я об этом упоминаю для того, чтобы осветить отношения его, бесконечно милостивые, к своей старой учительнице. Это были чувства того, быть может, порядка, какие у Пушкина, например, были по отношению к Арине Родионовне. Так же милостив он был и по отношению ко мне. Так, по его протекции я был переведен из полка на службу в Главный Штаб: ему хотелось, чтобы я был поближе к матери. Он выручил меня из большой беды, когда я попал под военно-окружной суд после побега Фельдмана из Севастопольской крепостной гауптвахты. Он принимал меня в частных аудиенциях. Вплоть до восшествия на престол я каждое шестое декабря приезжал к нему на именины. Он крестил моих детей, часто выручал, особенно в дни болезни, деньгами, но никогда, ни одним словом, не обмолвился о детских днях, прожитых вместе. А как-никак, прожито было вместе три года.
И я часто и подолгу ломал себе голову: в чем дело? Ничто так не сближает людей, как детство. И ничто так не приятно вспомнить в зрелые годы, как детские, вместе прожитые дни. Мне иногда казалось, что виною тут разница положений: он — Царь, великий и самодержавный, я — далекий и маленький его слуга. Правда, вся моя кровь и жизнь в его распоряжении, — стоит только сказать слово, — но все-таки разница остается разницей. Иногда казалось, что ему просто некогда думать об этом, голова занята не тысячью, а миллионом вещей: где туг вспомнить о детских пустяках? Но вот приезжала мать из Дворца и говорила так просто и так мило:
— Ну наморочила Нике голову так, что он, кажется, будет аспирин принимать. Все торгуется, все хочет побольше дать. Не знает того, что людей баловать нельзя. Просишь 500, а он смеется и 5000 пишет. «Ну что вам, Диди, лишнего нолика жалко? Ведь нужно, может быть, людям». Да ведь мало ли что нужно? На всех не напасешься. А он: «Царь должен на всех напастись». Прямо стыдно ходить: обираю его, как липку. А он еще полдюжины мадеры обещался прислать. Какая-то, говорит, необыкновенная мадера: сам только по праздникам пьет. По-моему, это он политику ведет: хочет, чтобы я Алешеньку учила. Намеки такие делает, что, мол, отца грамоте учила, ну и сына тоже. А я: «Нет, говорю, здоровье не то, печенка некудышная». Смеется, «в Карлсбад, говорит, пошлю вас, Диди, в починку отдам свою старуху милую». Ну прямо вот брошусь на колени и разревусь: «Бери все, здоровье, последние годы, последний отдых, последние силы...»
И по старческим щекам текут мелкие матовые слезы.
И тут меня разбирала не то досада, не то ревность: почему он со мной никогда так не говорит? Ведь я же его товарищ, старый кунак. Разве у нас нечего вспомнить? Разве не залезали на деревья в Аничковом саду и не плевали на прохожих? Разве не дразнили Чукувера? Не играли в снежки? Не боролись на снегу? Не лепили баб?
В чем дело?
И вот однажды был такой случай:
В 1916 году Царь приехал в Севастополь, чтобы благословить войска, отправлявшиеся на фронт, и пробыл с нами целых пять дней. Жил он в своем поезде, стоявшем на Царской ветке. В конце пятого дня он должен был уехать в Петроград. Вечером, часов в восемь, прибыли высшие должностные лица, чтобы откланяться. До отхода поезда оставалось часа четыре, и, чтобы не задерживать людей, Государь после беседы встал и, улыбаясь, сказал: — Ну, господа, а теперь считайте, что Государь уехал. Попрощался, и все мы вышли из вагона.
Я один остался на путях, полагая своей обязанностью, как коменданта, быть при поезде до самого его отхода.
Было темно, потом вызвездило. Глаз привык к темноте, вижу, как кот. Хожу, разгуливаю вдоль поезда, стараюсь не шуметь. Вспыхнул в вагоне свет у письменного стола. Значит, сел за работу. По занавеске порою шевелится тень. Из города подвезли провизию на завтрашний день, потом лед. Поездная прислуга, не стесняясь, галдит.
— Тише! Государь работает! — говорю.
Смотрят на меня с удивлением, как на провинциала.
— Государь к нам привычен, — говорят.
Разместили провизию, надели кепки, залились в город погулять до отхода и какой-то нахал шепчет мне на ухо фамильярно:
— У вас здесь публика пикантная, господин комендант.
Думаю: попадись ты мне в городе, я бы показал тебе пикантность, а тут, у царского поезда, не хочется делать тарарама.
Завихрились и исчезли.
Час прошел, другой, слышны из города часы, вот соборные, вот крепостные, — все по колоколам знаю. Посмотрел в портсигар: две папиросы, надо экономию наводить. Воздух осенний, море начинает йодом пахнуть, по путям мыкаются паровозишки, маневры, посвистывают. А лампа в окне все горит, все голову наклоненную вижу да порою дым от папироски. Вдруг шорох по песку. Кто-то идет прямо на меня.
— Кто?
— Это вы, Олленгрэн?
Оторопел.
— Я, Ваше Императорское Величество.
— Почему не уехали?
— Счел долгом остаться до отхода поезда, Ваше Императорское Величество.
— И что зря себя мучаете? И так тут со мной намаялись. Пять круглых дней.
— За счастье почитаю. Ваше Императорское Величество.
— Нет ли у вас папиросы: у меня вышли, а прислугу будить не хочется. Раскрываю портсигар. Царь шарит рукой.
— Да у вас всего две.
— Рад стараться. Ваше Императорское Величество.
— Не возьму. Не этично.
И отдать себе отчета не могу, как у меня вырвалось:
— По старому приятельству можно, Ваше Императорское Величество. Царь засмеялся и сказал:
— Ну, разве что по старому приятельству.
Мы закурили в темноте, и тут последовал разговор, потрясший меня до основания.
— Вы помните воздушный шарик? — спросил меня Император.
— Не помню, Ваше Императорское Величество, — ответил я, слегка растерявшись.
— Ну как же так? Помните, вы уже окончили ваше пребывание с нами во дворце и были уже кадетом? И вот, кажется, в прощальное воскресенье приехали к вашей маме, которая еще не ушла от нас. Ей, кажется, хотели поручить покойного Георгия.
— Да, да, Ваше Императорское Величество. Но мама уже не имела сил.
— Чего именно, Ваше Императорское Величество?
— Ну вот этого маленького шарика, который вы принесли с Марсова поля? Красненький такой шарик? Чтобы он не лопнул, вы попросили Аннушку... Вы, может быть, и Аннушку забыли?
— О нет, Ваше Императорское Величество. Аннушку я отлично помню.
— Ну вот, — продолжал Государь, попыхивая папироской, — вы попросили Аннушку привесить этот шарик на кухне к окну, на воздух. Потому что эти шарики в комнатном воздухе долго жить не могут.
Словно молния разорвалась вдруг в моей голове. С отчетливостью, будто это случилось вчера, я вспомнил все. И по какой-то неожиданно налетевшей на меня оторопи, продолжал все отрицать и стоял на своем:
— Ничего не могу припомнить, Ваше Императорское Величество.
Царь был редко умный, проницательный и наблюдательный человек. Вероятно, он разгадал мою драму. Вероятно, он отлично понял мое смущение и, как на редкость воспитанный человек, не давал мне этого понять. Я же, чувствуя, как краска заливает лицо, благодарил Бога за темноту ночи, за отсутствие луны, за слабое мерцанье звезд. Государь, вероятно, так же чувствовал краску моего лица, как я. Даже в темноте я чувствовал его снисходительную улыбку.
— Волчью яму тоже не помните? — спрашивал Государь.
— Какую волчью яму, Ваше Императорское Величество?
— Какую я и покойный Жоржик вырыли в катке?
«Господи. Ну как же не помнить? Отлично помню. Все, как живое, встало перед глазами. Даже шишку на лбу почувствовал», — все помню, ничего не забыл, но кривлю душой и отвечаю.
— Не помню, Ваше Императорское Величество.
— Я, впрочем, понимаю, что вы все могли забыть. Столько лет. И каких лет! Я же не забыл, не мог забыть потому...
В темноте я чувствовал, как Государь беззвучно смеется.
— За это дело мне отец такую трепку дал! Что и до сих пор забыть не могу. Это была трепка первая и последняя. Но, конечно, совершенно заслуженная. Вполне сознаю. Трепка полезная. Ах, Олленгрэн, Олленгрэн, какое это было счастливое время! Ни дум, ни забот. А теперь...
Государь помолчал, затянулся последним остатком папиросы, догорающей до мундштука, и печально сказал, показав рукой в сторону Севастополя:
— Один вот этот город. Сколько горя он мне принес!
* * *
...Маленьким кадетиком я явился к своей матери в отпуск на последние дни Масленицы. Мама жила еще во дворце, ожидая назначения на службу. Ее служба при Великом Князе была уже окончена, и дальнейшее его образование перешло в руки генерала Даниловича.
Даже вот в этом зное французского юга я, как сейчас, чувствую блеск и морозную костяную жгучесть петербургского февральского полдня. Русский мороз мне, почему-то, всегда казался сделанным из кости. Невский был полон движения, веселого и тоже морозного. Странное дело: мороз, как и вино, веселит людей. На морозе хочется смеяться и совсем нельзя злиться. Все застывающие на морозе люди кончаются с примиренной улыбкой на лице. Когда человек замерзает, в ушах у него звенит, как от гашиша. А тут, в Петербурге, дым из труб идет к небу ровной нежной линией, ни ветерка, ни вздоха, по скрипу полозьев можно определить, сколько градусов, потому что скрип имеет свою музыкальную, то повышающуюся, то понижающуюся тональность. След полозьев имеет то голубоватый, то синий, то фиолетовый оттенок, и это все от количества градусов. Дыханье лошади, то просто парное, то густое и не скоро тающее, и цвет сосулек, — это все зависит от количества градусов, и наблюдательному человеку не нужно никаких термометров. И у глаза, как и у уха, есть свой абсолютный слух. И все это, зимнее, сияюще-белое, поет свою северную песню, и не удивительно, что здесь, на юге, нам этого не хватает, как обедни; слабеет без мороза здоровье; глаз не полируется зимним светом; легкие не прочищаются морозным воздухом. Там, именно там, чувствуешь себя на настоящей земле, ибо, конечно, на небе будет всякое блаженство, но не будет русского мороза.
Маленький, только что испеченный кадетик, в шинели, сшитой на рост, закутанный в желтый душистый башлычок, из которого торчит только красный нос, подхожу я к воротам Аничкова дворца с Невского проспекта. И сейчас же со всех ног летит ко мне старый пристав Хоменко. Он тоже в башлыке, но без кисточки, глаза красные и в негорестных слезах, борода в инее: вылитый елочный дед.
— Ты куда, кадетишка, прешь, болван? — кричит Хоменко, стараясь выпучить смерзшиеся глаза.
— К маме, — отвечаю я.
— К какой маме, болван? Здесь — царский дворец.
— Моя мама живет в царском дворце.
— Кто ты такой есть? — грозно спрашивает Хоменко.
Мне в душе нравится, что Хоменко меня не узнает. Конечно, где ж старику узнать? Я — уже большой, форменный, я уже мажу керосином место для усов, скоро могу отпустить бороду подлиннее, чем у самого Хоменко.
— Я, — говорю, — Володя Олленгрэн.
И тут Хоменко «разувает» глаза.
— Володька! — кричит он на весь проспект, — да это ты, чертенок?
— Я, — отвечаю морозным звучным басом.
— Не узнать тебя, богатым будешь.
— Побогаче вас, — говорю, — буду.
— Ну уж, конечно, где же нам? (После смерти Хоменко оставил несколько миллионов). Ну уж иди, иди на этот раз. Но помни, что твой подъезд с Фонтанки, слышишь?
— Слышу, — отвечаю я и важно вхожу в самые царские ворота.
Иду по двору, гляжу — из гимнастического зала, в одном сюртуке, бежит отец Ники, великий князь Александр, и тоже кричит:
— Ты куда, кадет?
— К маме.
Но он по голосу сразу узнает меня и тоже, как Хоменко, удивляется:
— Это ты, Володька?
И мне снова радостно: все меня знают, цари, пристава, кругом — родной добрый дом. Великий князь тоже, как все люди, замерз и на всех парах летит к подъезду, там поджидает меня и трогает за нос и говорит:
— Пропал твой нос, отвалиться должен, мажь скорее гусиным салом.
А у самого пар изо рта, глаза совсем посинели и тоже слегка плачут. У меня вырастает громадное к нему уважение: без пальто по морозу бегает, — вот это настоящий великий князь, ничего не боится.
Напился я у мамаши шоколаду, оттер нос, горечь разлуки скоро прошла, и стало даже скучновато. Мамаше не здоровится, печень, горячая бутылка, порошки с бумажными, замечательно красивыми ленточками от аптеки, в квартире — не теплота, а самая настоящая сушь. Аннушка вздыхает о Боге и все поет «Святые Троицы», все те же лампы с механизмом, те же кресла, — Господи! Какая скука во дворце! Только в корпусе я узнал, что такое настоящая человеческая жизнь. В моем классном столе, например, сидит и блаженствует настоящий живой воробей Мишка, подобранный мной в саду, костеневший от холода. Теперь Мишка освоился, ест хлеб и дышит через дырочку, которую я провертел в парте перочинным ножом. С таким приятелем умирать не надо, даже уроков учить не хочется.
Скука часам к двум меня разобрала окончательная, и я начал просить маму, чтобы она отпустила меня на балаганы. Об этих балаганах в корпусе говорили много и с большим оживлением. Не быть на балаганах — это все равно что быть у папы и не видеть Рима: так заявил один старый кадет, наш приятель.
Начал приставать, мама смилостивилась, отпустила и дала абаз: так у нас в корпусе по-татарски называли двугривенный. Мама настаивала, чтобы со мной, провожатая, пошла Аннушка, но я наотрез отказался и начал стращать маму тем, что из корпуса выгонят, если увидят, что бравый кадет не может развернуться без дамской помощи.
Когда я вышел на двор, снова закутанный в башлык, я услышал, что кто-то мне вслед стучит из верхнего окна по стеклу. Поднимаю голову: Ники. Вижу, он делает такое движение рукой, которое обозначает: рад тебя видеть. У нас, как у глухонемых, была выработана особая азбука жестами. Я тоже взмахнул руками, так, что означало, что тоже страшно рад тебя видеть, и даже поплясал маленький танец. Ники с нетерпением забарабанил в стекло и начал жестами говорить: немедленно иди ко мне. Потом сделал дымное движение над головой и потянулся, — это означало: подыхаю от скуки. Я постучал себе в грудь и опять поплясал, — это означало, что мне адски весело. Ники вопросительно прошел двумя пальцами по стеклу: куда держишь путь? Я показал немедленно деда с длинной бородой, козу на ленте, курносого клоуна, намазанные щеки, — это значало, что иду в комедию, на балаганы, и Ники сделал удивленное лицо: ничего не понял. Бедный! Он не знал, что такое комедия и что такое балаганы. Я сделал несколько шагов вперед, потом назад, потом показал пальцем на язык и лоб, — это значило: пойду и, когда вернусь, все расскажу по порядку. Ники погладил себя по волосам,— это означало, что он плачет и ему горько оставаться дома. Я приложил к глазам конец башлыка и, рыдая, вздрагивая плечами, пошел со двора, как апостол Петр после отречения.
В те времена, в дворцовой атмосфере, я уже начал отдавать себе отчет в том, что такое я и что такое он. Я понимал, что между мною и им — неизмеримая разница, но благоговения у меня к нему никакого не было. Я понимал, что перед ним расстилаются все блага мира, кроме одного: кроме свободы. Я вот, маленький и никому, кроме мамы, не нужный кадет, пойду сейчас по Невскому, с таким удовольствием буду отдавать честь офицерам и втайне жду, чтобы побольше было генералов: так приятно чувствовать себя служилым человеком, у которого есть уже серьезные государственные обязанности и которого за нарушение оных запрут часика на два в холодную. Так приятно вытянуться в струнку перед генералом и о поручике подумать: «ерунда»: просто шлепок к козырьку и никаких фронтов.
Выхожу из ворот и сам думаю: «бедный Никенька, сидит, как мой воробей в парте, никуда не пускают, почему? Ну кто тронет нас, кому мы нужны?»
Снова вижу Хоменко, подхожу к нему, становлюсь во фронт, держу руку у козырька и спрашиваю:
— Ваше превосходительство, разрешите узнать, как пройти на балаганы? Хоменко тоже откозыривает мне и со всей вежливостью показывает рукой:
— Вот пойдете все прямо, господин кадет на палочку надет, и потом свернете вправо и лучше всего, если спросите у городового. А от мамаши разрешение имеете?
— Так точно, имею.
— С Богом по морозцу.
И я не иду, я стрелой лечу, пропуская даже генералов, — так влечет меня на крылатых, морозом подкованных ногах чудесная жизнь.
Император Александр Третий был очень остроумный человек. Многие из его резолюций сделались классическими. Известен случай, когда в каком-то волостном правлении какой-то мужик наплевал на его портрет. Дела об оскорблении Величества разбирались в Окружных Судах, и приговор обязательно доводился до сведения Государя. Так было и в данном случае. Мужика-оскорбителя приговорили на шесть месяцев тюрьмы и довели об этом до сведения Императора. Александр Третий гомерически расхохотался, а когда он расхохатывался, то это было слышно на весь дворец.
— Как! — кричал Государь. — Он наплевал на мой портрет и я же за это буду еще кормить его шесть месяцев? Вы с ума сошли, господа. Пошлите его к чертовой матери и скажите, что и я, в свою очередь, плевать на него хотел. И делу конец. Вот еще невидаль!
Арестовали по какому-то политическому делу писательницу Цебрикову и сообщили об этом Государю. И Государь на бумаге изволил начертать следующую резолюцию:
— Отпустите старую дуру!
Весь Петербург, включая сюда и ультрареволюционный, хохотал до слез. Карьера г-жи Цебриковой была в корень уничтожена, с горя Цебрикова уехала в Ставрополь-Кавказский и года два не могла прийти в себя от «оскорбления», вызывая улыбки у всех, кто знал эту историю.
Это был на редкость веселый и простой человек: он с нами, детьми, играл в снежки, учил нас пилить дрова, помогал делать снежных баб, но за шалости крепко дирывал за уши. Однажды мы с Ники забрались в Аничковом саду на деревья и плевали на проходящих по Невскому проспекту. Обоим от будущего Александра Третьего был дёр, отеческий и справедливый.
Я отвлекся в сторону вот по какому поводу. До сих пор понять не могу, почему в царствование именно этого Государя, который сам так любил и посмеяться, и пошутить, и, самое главное, понимал и ценил шутку, — почему именно в его царствование были воспрещены так называемые масленичные балаганы? И вообще не могу понять, почему, например, и в Париже отошли в область преданий и карнавал и жирный вторник? И Петербург и Париж очень много потеряли в своем художественном облике от этих запретов.
Боже мой, как я, маленький кадетик, веселился тогда на этом гулянии! «С пылу, с жару, пятак за пару», — «с гусачком», — я прежде всего отведал действительно обжигавших пирожков. Никакие блюда царской кухни не могли ублажить моего вкуса, как эти собственноручно купленные пирожки около малафеевского балагана! Дед, кривлявшийся на параде, кричал мне:
— Кадет, не доедай до конца, оставь балалаешнику кусочек! Не дай душе протянуть ноги от голода. Потешь деда-весельчака-а! Дай дыхнуть!
И вытирал катившиеся фальшивые слюни.
И какие-то купцы в необъятных енотах, и купчихи в бархатных бурнусах, и полотеры (полотера сразу видно по усам), и мальчишки в бараньих тулупчиках, и девки в очаровательных кокетливых платочках (самый прелестный головной женский убор: недаром его так теперь оценили щеголихи на здешнем Лазурном берегу), — все в один голос кричали мне:
— Кадет, оставь дедушке, потешь старого!
Я оставил недокусанным полпирожка и протянул его деду. Дед был высоко, на верхнем помосте, и какой-то полотер выхватил у меня из руки пирог, полез по столбу с флагом и победоносно вручил его деду.
— Спасибо, внучек, пожалел деда, не оставил. Заходи на представление, гостем будешь, потешу душеньку. Эх, купец, чего смотришь? Последуй примеру, отвали на полуштоф, будет весь обед готов.
Дед говорил в рифму, подплясывал, прыгал от мороза, помахивал платочком, подмигивал девкам и все время тренькал на балалайке.
В самом балагане было волшебство: ломались на трапециях, глотали дым, пропускали шпаги в живот и представляли прекрасную магометанку, умирающую на гробе своего мужа. Магометанка была действительно на заглядение, умирала с холодным лицом, но долго. Зато купчихи плакали и быстро вытирали слезы, чтобы не замерзли. Купцы крепились и нюхали табак, не чихая. Когда привели пойманного разбойника, полотеры кричали с стоячих мест: — Бей его по скуле, сукинова сына! И я смотрел на полотеров с тайной благодарностью.
Посреди балагана горела огромная печь, весело потрескивали березовые дрова, дымок был ароматен, и тепло шло от него живительное, не хотелось уходить, сидел бы до вечера. Потом магометанка танцевала с бубном и била им по коленке.
А когда я вышел из балагана, то воздух уже посинел, сгустился, на горизонте обозначился молоденький месяц в прозрачных пеленках, горели костры, пришлось выпить сбитня и требовать, чтобы продавец наливал стакан до краев.
Полотеры, улегшись брюхом на санки, слетали с гор и усы у них от лета превращались в снежных мышей. Наверху гор с победоносным клекотом, трепетали флаги. Шум стоял, как на ярмарке, играли органы и какие-то флейтисты, ходившие цугом. И вдруг показалось видение, погубившее меня: это был бородатый мужик в белом фартуке, продавец воздушных шариков.
На тоненькой веревке он держал гроздь цветных шаров, покачивавшихся в воздухе. Это было так волшебно красиво, что у меня захолонуло дыхание. Они были такой нежной прозрачности и чистоты, что обладание одним из них казалось недоступным достижением. Каждый из них должен был стоить самое меньшее сто рублей. Тем более, что мужик смотрел на меня и на народ с убийственным презрением. Он был прав, творец и обладатель шаров. Будь я на его месте, я бы не продал никому ни одного шара. Как можно расстаться с таким чудом? Эти шары были прелестным дополнением к углубленному голубому небу, к молоденькому ребенку-месяцу, казалось, они именно для него, для месяца, и были принесены сюда. И потом, им, голеньким, так, вероятно, холодно на таком морозе, когда от всех, даже от башлыка, валит пар. Все исчезло для меня, даже шум, даже музыка. Я ослеп и оглох. Если бы презрительный мужик сказал мне: «Кадет, сними сапоги, я дам тебе за них шар», — я бы не задумался ни на одну минуту. Так меня поразили эти, в первый раз увиденные воздушные шары. Впечатление было так велико и так запечатлелось в душе, что я и теперь, через шестьдесят лет, смотрю на эти шары с волнительным умилением. Тогда же я ходил за мужиком, след в след, как ученик ходит за пророком.
И вдруг к мужику подходит купец. От купца идет пар, как из бани. Купец грубым голосом спрашивает: — Борода, почем шары? Мой мужик отвечает хрипло: — Пара семь копеек, один — пятак. До сих пор я слышу ярославское «я» в слове «пятак». Купец отходит и недовольно говорит: — Цену знаешь, прохвост!
А меня обдало жаром. Как? Не сто рублей, а пятак, простой пятак? Где же мои пятаки? Лезу в один карман, в другой, — пропали, исчезли мои пятаки. Боже мой, где же пятаки? Неужели я все прожил без остатка, дурак, осел, неразумная скотина? Я был так закутан, что искать, пробиваться в карманы было нелегким делом. От меня валил пар, как от купца, нос не держал слезоточивости и какой-то проходящий сказал:
— Сопли растеряешь, кадет. Но я так далек был от всяческих оскорблений!
Меня прошиб пот, как после малины, я готов был сбросить башлык, казавшийся пеклом, горчичником. Я поочередно вынимал из кармана драгоценный билет в балаган, свинчатку, подзорную трубу с красным стеклом, янтарный мундштук, корм для воробья, бенгальские спички, конфету, о которой я давно забыл, — все, все! Пятак оказался в правом кармане шинели, — там, где ему и быть надлежало: просто от волнения я не мог его как следует нащупать. Все свои поиски я производил, ни на минуту не оставляя следов моего мужика.
Поддернув носом, я зашел к нему с лица и, вероятно, побледнев, протягивая толстый пятак с широким николаевским вензелем, повелительно сказал: — Давай шар! Мужик ответил:
— Какой тебе?
Опять задача. Мужик смотрит презрительно.
— Красный! Нет, синенький! Нет, вот тот!
— Лиловый, что ли?
— Нет, красный.
— Ты, как девчонка, кадет, — говорит мужик сердито, отцепляя шар. — Сам не знаешь, что твоя душа требовает.
И красный шар очутился в моей руке. Я не чувствовал ни оскорблений, ни мороза, впившегося в мою руку. Шар был невесом, от спускающейся темноты он тоже потемнел, стал рубиновым, как на мамином кольце, но плывет за мной вслед, как воздушная собачка, хочет вырваться из пальцев, но шалишь, брат, теперь я тебя не отпущу, теперь ты мой, навеки.
И первый раз в жизни я тогда понял, что такое счастье, полное человеческое счастье. Я хотел узнать у мужика его адрес, чтобы, когда буду генералом, осыпать его деньгами и заставить работать только для меня и моих детей. Мужик жил бы в теплой бане и Аннушка носила бы ему обед, а я приходил бы за шарами. Шары были бы всюду, трепетали по воздуху, очаровательно шуршали бы в руках и ласкали взор.
Не замечая окончательно сгущавшейся темноты, ни огней Невского проспекта, ни медленно крутившегося с неба крепко замороженного снега, ни скользкости панели, — ни генералов, ни простых офицеров, ни всей этой презренной земной жизни, — я машинально шел вперед и очнулся только лишь тогда, когда увидел четырех чугунных коней. Ага! Значит, сворачивать направо.
Направо был дворец с въевшимся в стены снегом. Прибавилось холоду от Фонтанки. Мелькали красноватые лампочки в живорыбных садках. Лошади напирали слева, справа, я слышал их басистое и парное дыхание и шелест полозьев, и была одна только мысль: «Как бы голодная лошадь не съела шар».
Я сам бы съел его с удовольствием: такой он был вкусный и располагающий.
Наконец, прицепившись к солидному господину в глубоких калошах, я перешел дорогу и, не помня никаких препятствий, проник к родной матери. Шар не поразил ни маму, ни Аннушку: тем хуже для них. Но меня он не то что поссорил, но как-то разлучил с императором Николаем Вторым на всю жизнь, и он в Севастополе мне об этом напомнил.
Подошел вечер, глаза слипались, надо было спать. А глаза не переставали смотреть на этот волшебный, не от мира сего шарик. Зная, что со сном не вот-то поборешься, чувствуя линии ослабевающих, как после гимнастики, мускулов (особенно сдавали ноги), я решил, что если со злом сна и земного забвения бороться немыслимо, то шара своего я, во всяком случае, из рук ни за какие деньги не выпущу. Я сплю, пусть и он спит. Накручу нитку на палец, улягусь на спину, и так вместе проведем ночь. Но Аннушка, пришедшая делать постель, заявила:
— Ночи не выдержит ваш шар. Лопнет.
— Как лопнет? — воскликнул я.
— Очень просто, как лопаются шары. Его нужно на холодный воздух. Тогда он продышит еще день.
Завязался спор, в котором я атаковал Аннушку, как своего злейшего врага, но увы! Пришла мамочка и, со свойственным ей авторитетом, заявила, что Аннушка права и что шар нужно выставить на вольный воздух. Шар, как все прекрасное, не долговечен. Надо спасти его, — и дрожащими руками я передал шар Аннушке, чтобы она выставила его в кухне за окно и прицепила бы попрочнее. Аннушка равнодушно, как обыкновенную вещь, схватила его своими заскорузлыми пальцами и вынесла из комнаты. Мне хотелось плакать, кричать, бежать вслед, но я был бос, раздет и боялся маминого скандала.
Вздохнув, я завалился на подушки и сразу увидел какую-то зеленую прямую линию, которая шла через весь Петербург. Потом дед чавкал мой пирожок, потом я подержал черного кота за хвост, потом кто-то шумно вздохнул около меня и я, как топор, начал спускаться на дно: вода была теплая и приятная и мне было приятно знать, что я теперь не кадет. Потом бухали молотом какие-то часы, и я съежился от ужаса, думая, что вот зазвонит на вставанье корпусной визгливый колокольчик. Но колокольчик не зазвонил, а раздался голос все той же Аннушки:
— Пора вставанкили, а ваш шарик уже по саду гуляет.
— Что ты наворачиваешь? — сердито сказал я. — Мой шарик привязан к окну.
— Был, да сплыл.
Во мне все оборвалось.
— Как так? Что ты несешь?
— Да вот уж и так. Никенька прислал солдата и взял шарик.
— Как так взял? Кто же его дал?
— А я дала. Пусть побегает.
— Стерва! Ты отдала мой шар?
— А что ж он его съест, что ли? Побегает и принесет. Я понял, что миру наступил конец.
— Он царенок, Никенька-то, — заметила Аннушка.
Меня трясла лихорадка. Я не помнил, как сами собой натягивались мои штаны и левый сапог влезал на правую ногу. Руки тряслись, пальцы не попадали в петли. Мысль была одна: спасать шар, спасать какой бы то ни было ценой, пока ни поздно.
Как сумасшедший, выбежал я в сад: без шинели. Ничего не замечал: ни адского холода, ни снега, валившегося мне за ворот, ни скользкости пути. Была одна сумасшедшая мысль: где Ники? Что с шаром? Чувствовал одно: Ники мой злейший враг. Все остальное: старая дружба, дворец, то ощущение разницы, которое у меня начинало уже образовываться («правда, что ты учился с великими князьями»?), все вылетело из головы...
И вдруг оно где-то между деревьев мелькнуло, цветное пятно. Как стрела, пущенная из лука, я бросился туда. Ники, завидев меня, со смехом бросился наутек. О, этот прелестный, шаловливый, почти девчоночный смех! У нас в корпусе был один кадет с таким же смехом, и всегда при нем я вспоминал Ники. Но сейчас это был смех злейшего врага. Я двинулся со всей поспешностью за ним, чтобы отнять свой шар. Но Ники (он был слегка косолапенький), как зайчонок, юлил по всему саду с чертячьей ловкостью. Вот-вот уже схватил его за шиворот, — ан нет: он уже метнулся вокруг дерева и увильнул.
— Отдай шар! — кричал я. — Не твой шар!
— Теперь мой, не возьмешь, — отвечал Ники, и прелестное цветное пятно туманило у меня перед глазами.
— Ты не смеешь трогать мой шар!
— Мне его Аннушка дала. Знать тебя не знаю.
Долетев до катка, Ники с шиком прокатился на подошвах, я тем же аллюром за ним, но в волнении не выдержал равновесия и брякнулся на четвереньки. И опять рассыпался в воздухе девчоночный смех: Ники был уже далеко и кричал:
— Не можешь на подошвах прокатиться, медведь. Ни за что меня не словишь.
Опять новая заноза в самолюбие. И опять новый завод, новая пружина в теле... Опять понеслись по саду. Закрутились вокруг дерева: Я — направо, он — налево, поди ухвати. Вижу перед собой только веселые, бесконечно смеющиеся глаза, бархатные и лучистые. Досада меня разбирает все больше и больше: решил лечь костьми, но отнять шар, ни с чем в саду не сливающийся, но придающий красоту каждой точке, около которой он появляется. Дерево кажется другим деревом, каток — другим катком, и сам Ники кажется мне другим, — неизвестным мне мальчиком. И тень очаровательного цвета иногда скользит у него по лицу и делает его еще прелестнее и нежнее.
На Нику напал хохотун, серебром этого звонкого смеха полон весь зимний, с крепким, как сахар, снегом сад. С удовольствием, как выздоровление, я чувствовал, что моя первоначальная злость переходит в доброе и благожелательное чувство: так приятно, в крепких сапогах и чувствуя усиленное тепло в теле, бегать, скользить, ловчиться с растопыренными руками, звонко рычать и смехом отвечать на смех. И вдруг случилось долгожданное. Ники поднял руки в знак сдачи.
— Отдаю шар, — сказал он и, с поднятыми руками, как парламентер, шел навстречу.
С сердца сваливался камень. Сейчас мое сокровище будет всецело принадлежать мне. Я уже протянул жадные руки. Ники поднес шар к самому моему носу и вдруг выпустил нитку из рук, и шар мгновенно вознесся к самой вершине сада.
— Лови свой шар! — крикнул Ники со смехом и опять пустился бежать. Но тут силы мои утроились, к ногам приросли воздушные крылья, я сделал какой-то невероятный скачок, настиг, повалил его, смеющегося до хохота и совершенно от этого бессильного, и начал ему насыпать по первое число. От хохота, от смешных слез его у меня все больше поднималось сердце и все большею силой наливалась рука. Я лупил его по чем попадя, но, очевидно, теплый тулупчик поглощал мою силу и только щекотал бока Ники.
— Ты смотри, кровь пойдет, узнают, обоим влетит, — сказал наконец Ники, и я отпустил его и сам, как нюня, заплакал по шару. Мы оба начали смотреть в небо, забегали в места, с которых повиднее, — увы! ничего не было видно. Шар улетел. На меня сваливалось горе, тяжелая тоска, при которой жизнь теряет всякий интерес и начинается апатия.
Показался Данил`ович в длинном сюртуке и вызвал Ники. Ники сказал потихоньку: «холера» и послушно, наклоняясь вперед, побежал. Я, со своим горем, остался один в мире. Конечно, шары есть, но, во-первых, кто пустит на балаганы еще раз, а во-вторых, где найдешь нужные средства?
Дома рассказал все маме. Мама посмеялась и сказала, что завтра у меня будет два шара. Это меня успокоило, и, чтобы победить мучительность ожидания, я раненько залег спать и, проснувшись поутру, увидел, что к кровати привязаны два шара: красный и зеленый. И опять комната, которую я так хорошо знал, показалась мне новой, интересной и жизнь — радостной и полной. Я был счастлив и чувствовал в сердце прилив доброты. Меня мучили сомнения: уж не слишком ли я вчера ополчился на старого друга Ники? В комнату вошла Аннушка и объявила мне:
— На кухню прислан солдат и говорит, что Никенька ждет тебя на катке. И Жоржик тоже.
Дворцовая прислуга, надо сказать, всю великокняжескую семью звала запросто: «цари». «Цари пошли ко всенощной. Цари фрыштикают». А маленьких великих князей, как в помещичьей семье, звали просто по именам и всегда ласково: «Никенька, Жорженька». Конечно, за глаза. Прислуга, как я теперь понимаю, любила семью не только за страх, но и за совесть. И вообще комплект прислуги был удивительный, служивший «у царей» из рода в род. Старики были ворчуны, вроде чеховского Фирса, которые не стесняясь говорили «царям» домашние истины прямо в глаза...
Оставив шары под надежным прикрытием, я быстро сбежал в сад. Там на катке уже суетились разрумянившиеся Ники и Жоржик. Было весело, светло, уютно. Каток я знал как свои пять пальцев. Он был большой, с разветвлениями, с особыми заездами, походил на серебристый паркетный пол. В самый разгар катанья Ники вдруг сказал:
— А вот по той дорожке ты не проскочишь.
— Почему это так? — гордо, с обидчивостью, спросил я.
— А потому! — уклончиво и с загадочной улыбкой ответил Ники.
Это задело меня за живое.
—Ты хоть и кадет (этому званию он завидовал искренно), а не проедешь, — сказал еще раз Ники.
— Что за чушь? Почему это не проеду? — опять гордо ответил я, прицеливаясь глазом на «необыкновенную» дорожку.
— А вот не проедешь.
Я, ничтоже сумняшеся, стал на изготовку, прищурил глаз, разбежался и... ахнул в яму. И с испугу, от неожиданности, заорал, конечно.
Как на грех, в это время проходил на пилку дров отец Ники, Великий Князь Александр, будущий Александр Третий. Услышав мой крик, он поспешил к катку, вытянул меня из ямы, стряхнул снег с моей шинели, вытер мне лицо, как сейчас помню, необыкновенно душистым и нежным платком. Лицо его было сплошное удивление.
— Что это? Откуда яма? Кто допустил?!
Теперь догадываюсь, что у него промелькнула мысль: не было ли здесь покушения на детей? Но Нику снова схватил хохотун, и он, приседая, чистосердечно объяснил отцу все: как я вчера поколотил его за шар и как он мне сегодня отомстил.
Великий Князь строго все выслушал и необыкновенно суровым голосом сказал:
— Как? Он тебя поколотил, а ты ответил западней? Ты — не мой сын. Ты — не Романов. Расскажу дедушке. Пусть он рассудит.
— Но я драться не мог, — оправдывался Ники, — у меня был хохотун.
— Этого я слушать не хочу. И нечего на хохотуна сваливать. На бой ты должен отвечать боем, а не волчьими ямами. Фуй. Не мой сын.
— Я — твой сын! Я хочу быть твоим сыном! — заревел вдруг Ники.
— Если бы ты был мой сын, — ответил Великий Князь, — то давно бы уже попросил у Володи прощения.
Ники подошел ко мне, угрюмо протянул руку и сказал:
— Прости, что я тебя не лупил. В другой раз буду лупить.
Вечером от имени Ники мне принесли шаров пятнадцать, целую гроздь. Счастью моему не было конца, но история, вероятно, имела свое продолжение, которого я так, до встречи в Севастополе, и не знал.
И только теперь, через множество лет, стоя со мной на Царской севастопольской ветке, Император Николай Второй намекнул мне, шутя, об этом...
* * *
Выслушав признание Императора, я, что называется, внутренне заерзал. Многое в моей жизни непонятное стало вдруг освещаться. «Он никогда мне этого не простил», — думал я. Вдруг Император сказал:
— У вас утомленный вид. Надо бы полечиться, отдохнуть...
Я ответил, что собираюсь, уже отпуск — в кармане и через неделю еду на кавказские группы.
Государь протянул руку и как-то просто, по-солдатски, сказал:
— Счастливо!
И поднялся в вагон, легко спружинив руками. И вдруг с площадки повернулся и сказал мне в темноту.
— Да! Если будешь в Тифлисе, передай от меня поклон князю Орлову.
И скрылся. А я чуть не грохнулся на тырс от этого дружеского, прежнего, детского, забытого «ты».
В рассказе о случае с воздушным шариком я отклонился в сторону и теперь начну по порядку излагать историю нашей совместной жизни с Великим Князем Николаем Александровичем и совместном учении.
Теперь, по исходе лет, мне кажется, что его отец, будущий Император Александр Третий (которого я считаю Государем гениальным) понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них небожителей. Он понимал, что небожительство придет само собой, в свое время, а пока суд да дело, нужно, чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни Тепличные растения — не прочны. И потому на меня, на обыкновенного шалуна и забияку, он смотрел благосклонным глазом и прощал мне многие штуки. Я был представитель той простой, обыкновенной жизни, которую ведут миллионы его подданных, и, очевидно, по его плану нужно было, чтобы к этой обыкновенной жизни причастился будущий хозяин жизни, а пока что — его маленький сын.
Я же, по совести сказать, не отдавал себе отчета в том великом счастье, которое мне выпало на долю. Больше: я просто тяготился той невероятно скучной и монотонной жизнью, которую мне пришлось вести в золоченых стенах великолепного дворца. Ну что толку из того, что к утреннему завтраку нам подавался чай, кофе и шоколад с горами масла и яиц, и все это — на каких-то особенных чудесных блюдах? Ты мне дай краюху хлеба, которую я заверну в карман, и потом на Псковской улице буду по кусочкам щипать и отправлять в рот. Тогда я почувствую этот очаровательный святой запах в меру зажаренной корки и дам себе счастье, как у Гомера, насладиться пищей. А то вот мы встали, все трое, кто хватил того, кто — другое, все спешат, глотают не жуя, несмотря на все запреты и замечания, и у всех — одна только мысль: поскорее в сад, на вольный воздух, поноситься друг за другом в погоне, устроить борьбу и, по возможности, чехарду, которую Ники обожал. Другое, что он обожал, это — следить за полетом птиц. Через многие десятки лет я и теперь не могу забыть его совершенно очаровательного личика, задумчивого и как-то мрачно тревожного, когда он поднимал кверху свои нежные, невинные и какие-то святые глаза и смотрел, как ласточки или какие-нибудь другие птицы вычерчивают в небе свой полет. Я это так любил, что иногда обращался с просьбой: — Ники, посмотри на птиц!
И тогда он, конечно, не смотрел, а в смущеньи делался обыкновенным мальчишкой и старался сделать мне салазки.
Он очень любил изображение Божией Матери, эту нежность руки, объявшей Младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь.
— Вот так и я бы спас нашу Ксеньюшку, если бы на нее напал змей, — говаривал часто маленький Великий Князь, — а то что же мой святой, старик и притом сердитый?
Он раз даже позондировал у моей мамы почву, нельзя ли ему перестать быть Николаем и быть Георгием.
— Ну что ж? — говорил он в ответ на возражения мамы. — Мы будем два Георгия: один большой, другой — маленький.
Он отлично понимал, что я — счастливее его, потому что моя мама — всегда со мной, а его мама видит его только два раза в день, утром да вечером, в постели.
Он обожал свою мать. Впрочем, обожал ее и я. Да и не знаю, кто ее не обожал? Вот это было божество в полном значении этого слова. Я дурак, мальчишка, лишался слова в ее присутствии. Я разевал рот и, застыв, смотрел на нее в божественном восторге. Она часто снилась мне, всегда с черным веером, каких потом я никогда не видел. Иногда и теперь я вижу этот прекрасный, раз в году повторяющийся сон, и все тот же страусовый веер, — и тогда я счастлив целую неделю, забывая и старость, и чужбину, и дикую неуютную жизнь. Как это бывало?
Обыкновенно часов в одиннадцать утра, среди занятий, раздавался с четвертого этажа звонок. Все радостно вздрагивали. Все знали, что это звонит мамочка. Тут Ники гордо взглядывал на меня: «его мамочка». Мгновенно все мы летели на лифт и сами старались ухватить веревку. Достигнув четвертого этажа, в котором жила Августейшая чета, мы через Блюдный зал, знакомой дорогой летели кто скорей, в «ее» будуар. Сейчас же начинались поцелуи и расспросы:
— Ну как спали? Что во сне видели? Боженьку видели? Начинались обстоятельные, вперебивку, доклады, при которых всегда, с скрытно-радостным лицом, присутствовал и отец.
Дети рвались к матери, грелись у ее теплоты, не хотели оторваться, но увы! Официальное время шло, и родителям нужно было уезжать к деду, в Зимний дворец, где они и проведут потом целый день, до поздней ночи. Я потом слышал, что Наследник потому так упорно ездил в Зимний на целый день, что боялся что отец, Александр Второй, даст конституцию. Мы этого тогда не знали, но знали, что перед расставаньем нас ждет огромное удовольствие. И это удовольствие наступало: Великая Княгиня всех по очереди катала нас вокруг комнаты на шлейфе своего платья. Это была постоянная дань за расставанье, покатавшись, обласканные на целый день, мы снова спускались на свою половину к мрачным книгам и тетрадям.
Детская половина состояла из приемной, гостиной, столовой, игральной так называемой опочивальни, в которой стояло три кровати. Была еще комната мисс Брент, англичанки, которая занималась воспитанием Великой Княжны Ксении, которая к нам, мужчинам, никогда никакого отношения не имела. В игральной комнате был песок, качели, кольца, всяческие игрушки. Кровати в спальне были особенные, с мудростью, без подушек (что на первых пор меня убивало), были невероятной упругости матрацы с валиками в головах. Был умывальник с проточной водой. Ванны не было, и купались дети у матери, в четвертом этаже. Я — у себя дома.
Занятия сперва захватили Великого Князя. Мир тетрадок, которые ему казались сокровищами, которые жалко пачкать чернилами, сначала мир очаровательных и таких, в сущности, простых книг, как «Родное Слово», с картинками, от которых нельзя оторваться. В особенности занимала его картиннка: «Вместе тесно, а врозь скучно» и серый воздушный шар. Совершенно очаровало его стихотворение «Румяной зарею». Не знаю, то ли уютный ритм этих строф, то ли самые картины утра, выраженные в стихе, но он, по неграмотности, сам еще не мог читать и все просил маму, чтобы она читала, и, когда она читала, он благоговейно шевелил губенками, повторяя слова. И опять его больше всего завораживала фраза: «гусей караваны несутся к лугам». Я, признаться, не понимал этого, но чувствовал, что это — интересно, как-то возвышенно, что это — какой-то другой склад, мне не доступный, и вот по этой линии я инстинктивно чувствовал его какое-то превосходство надо мной. Мне было смешно, когда он думал, что эта книга — только одна на свете и только него, что у других не может быть таких прекрасных книг, а я знал, что таки книг хоть завались и стоят они по двадцать пять копеек, а он не верил и совсем не знал, что такое двадцать пять копеек. Я ему иногда показывал деньги и говорил, что вот на этот медный кружок можно купить великолепную свинчатку и он не понимал, что такое купить, а променять свинчатку на скучный медный кружок считал безумием.
Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге: писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, а иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Часто бегал мыть руки, хотя тут, пожалуй, была предлогом волшебно лившаяся из стены вода. Его писанье было девически чисто, и тетради эти мать потом благоговейно хранила. Не знаю теперь, где они, кому достались и кто их бережет.
Ученье начиналось ровно в девять. Уроки были по 50 минут, десять минут — перемена. Вне урока рисовали огромного папу и маленькую маму с зонтиком. Иногда на уроках бывал Великий Князь Георгий: этот только смотрел, слушал, вздыхал и норовил, как бы поскорее выбрать такой промежуток, чтобы поскорей стрельнуть из комнаты в сад. И мы смотрели ему вслед с искренней завистью. По стенам бегают зайчики, в саду простор, улица аппетитно шумит: улица — недоступный, запретный, какой-то особенный, удивительный, для счастливых, свободных людей мир.
Что же, признаться, скучно было во дворце жить. Великим князьям было все равно: они в этом родились, свободы не знали и жили, как будто так и быть должно. Но я был птицей вольной, я знал, что такое свет Божий, что такое наслажденье дружбы, отваги, вольной игры, в которой каждый волен изобретать свои вариации, комбинации... Я знал, что такое сирень за забором или манящее яблоко. Я знал, что такое марафет, купленный по дорогой цене, за копейку, я знал восхитительное свойство денег, приближающих к вам очаровательные вещи, я знал запах дикой бузины и как из нее делать пушки, а из сочной арбузной корки — звонкие заряжалки. Я знал, как в сирени искать счастье, я знал мечтательность и загадочность счастья, а они? Они все имели уже при рождении.
Меня потрясло рождение Великого Князя Михаила. Однажды нам таинственно объявили, что родился братец. Там, наверху, в четвертом этаже родился братец. Что за братец? Какой братец? Мы знали только то, что наверх нас давно уже не пускали, и катанье на шлейфе кончилось, и маму никак нельзя видеть. Начиналась полная заброшенность. Великие Князья приуныли, осиротели, и Ники часто спрашивал:
— Мамочка больна?
Ему отвечали, что нет, не больна, но ее нельзя сейчас видеть, ей некогда, дедушка задерживает, уезжает рано и приезжает поздно. Дети как-то осунулись, потускнели, стали плохо есть, плохо спать. Жоржик плакал по ночам, и Ники, подбежав к кровати голыми ножками, трогательно успокаивал его, утешал и говорил.
— Гусей караваны несутся к лугам...
Ложился с ним в кроватку и вместе засыпал. Вообще Ники не мог съесть конфетки, не поделившись... И вдруг:
— Братец! Новый братец! На кого похож? — Когда же мы его увидим?
— А вот погодите, придет срок.
Началось ожиданье. Дворец притих, Аннушка ходила неузнаваемая, не глядя на людей, зажигала у своих образов красные страстные свечи.
И вдруг как-то нас всех позвали в неурочную минуту из сада, после завтрака или по окончании обеда. Была какая-то взволнованность и особое тревожное внимание к Великим Князьям. Как-то особенно тщательно осматривали их костюмчики, их причесочки, заново прошлись гребешком по проборчикам, заставили экстренно вымыть руки, вычистили ногти и потом как-то скомандовали:
— Ну, а теперь к маме, смотреть нового братца. Взяли и меня.
И вот мы вошли в спальню Цесаревны. С подушки на нас смотрело милое, знакомое, улыбающееся, отстрадавшее лицо, счастливое. Ничего общего с той, что уезжала к дедушке, такой одетой и причесанной, не было. Лежала обыкновенная, как все, мама, которой вовсе не надо каждый день ездить во дворец. А около нее стояла колыбелька, и в колыбельке лежал толстенький ребенок, спавший. Все в нем было новое: и кожа на лице, и ручки, и маленькие пальчики, и какие-то особенные неуловимые волосики. И все было в смешных морщинках.
Но самое главное, — около него на особом столике, вровень с колыбелью, лежала какая-то толстая тяжелая цепь.
Я спросил, что это за цепь.
И мне ответили:
— Это — Андрей Первозванный.
Когда начались занятия моей матери с Великим Князем Николаем Александровичем и когда мы только что переехали на жительство в Аничков дворец, — мама моя больше всего боялась (и теперь я считаю это совершенно естественным), как сложатся мои отношения с детьми, но все же российскими Великими Князьями самой, так сказать, большой ветви. В далеком, но, все-таки, несомненном будущем, — Великий Князь Николай Александрович — сначала — Наследник Престола, а затем, если Бог соизволит, и Император всея Руси, Царь Польский и Великий Князь Финляндский. Конечно, теперешний Наследник Престола Великий Князь Александр Александрович — богатырь и рассчитан минимум на сто лет жизни (в моем тогдашнем воображении «не мал человек под потолок ростом»), но все под Богом ходим и надо брать вещи так, как они суть. И поэтому мать ночей не спала и мне не давала, все уча меня: как надо быть почтительным к царским мальчикам, как быть сугубо осторожным в обращении с ними и, в особенности, как нужно их титуловать.
— Обязательно называй Вашим Высочеством и никак не Ники или Жоржик, а Николай Александрович и Георгий Александрович и обязательно на «вы». Это — дети царские, считай счастьем, это папочка умолил и так далее и так далее...
И я чувствовал, как у меня к сердцу подступает, что называется, неизбывная тоска. Это мне, человеку с Псковской улицы, ходить с накрахмаленной душой, быть вечно на страже собственных слов, следить за каждым своим движением и жестом! И потом: какие они великие князья? Такие же мальчишки, как и я, только у богатого отца, — вот и все, У них отец есть, а у меня, бедного, нет: вот и вся разница. Я — сирота, они нет. В этом их счастье. Так почему же мне думать о каких-то высочествах, когда они так же, как и я, ходят, бегают, разговаривают, едят, спят и так же, как и я, врут маме насчет больного живота, когда урока не выучил, или что палец болит, когда писать не хочется? И, как говорят французы, я ходил со смертью в душе. Мне было скучно и тоскливо, и в саду я старался отделяться от них. Пусть я играю здесь, а Их Высочества — там. Так проще и для языка — удобнее. И не нужно о чем-то думать, к чему-то приспособляться.
И вот однажды в зимний день я что-то делал в саду и вижу: прямо на меня, в одном сюртуке, идет действительно Великий и благоговейно уважаемый, без всяких предварительных наставлений, Князь Александр Александрович, подходит ко мне и спрашивает:
— Володя! А где же Ники?
Я ответил:
— Его Высочество за горой чистит снег.
Великий Князь, подумав немного, сказал:
— Слушай, Володя. Для тебя великий князь здесь — только я один. А Ники и Жоржик — твои друзья, и ты должен звать их Ники и Жоржик. Понял?
— А мне мама велела...
— Правильно. Маму слушаться необходимо, но это я тебе разрешаю и сам с мамой поговорю. Понял?
— Понял, Ваше Высочество. А то очень скучно.
— То-то и дело, что скучно. Ну беги к мальчикам и играйте вместе.
Лед рухнул. С плеч скатилась гора.
Я на крыльях радости полетел к Ники, теперь моему дорогому другу и товарищу, которого тоже злило, что я называл его неуклюжим и плохо вращающимся во рту титулом. Иногда с досады он тоже и меня называл вашим высочеством, и тогда я боялся матери: услышит и будет скандал в очках, как говаривал наш ламповщик. Этот ламповщик был большим нашим общим другом, вроде Аннушки, и мы испытывали по отношению к нему самое полное доверие. Когда он, бывало, зайдет в игральную комнату заправлять лампы,— мы сейчас же к нему:
— Сидор, расскажи про войну...
И он, нарочно подольше возясь с лампами, рассказывал, и особенно наше воображение поразил переход русских войск через Дунай. Как это: переход через Дунай? И потом в саду мы изображали это так: маленький Жоржик был Дунаем, ложился на землю, а мы с Ники через него «переходили», причем Дунай, чтобы сделать трудности, шпынял нас ногой в зад. И мы тогда, чем больше было трудностей, тем больше гордились и надевали медали, которые Ники уже тогда мне «жаловал», отлично понимая эту свою привилегию. Жорж не менее отлично понимал неблагодарность роли переходимого Дуная и за это выхлопатывал себе немалые привилегии, например: он был постоянным продавцом мороженого, ему принадлежала в частном порядке знаменитая столовая ложка, выбитая из пивной бутылки и о которой я в прошлый раз уже говорил.
Иногда Ники, ложась спать, когда горел только маленький ночничок, изображал низким басом:
— Сах-харно мрожено, мр-р-ожено.
И тогда Жоржик вскакивал и лупил его кулачком по одеялу и требовал:
— Не смей кричать. Это я кричу.
Тогда, закрывшись в одеяло с головой, начинал я:
Жоржик подлетал ко мне и кричал:
— Замолчи! Это я кричу.
И ожесточенно барабанил по мне.
Мы с Ники закатывались со смеху, но Жорж входил в азарт, отстаивал права собственности, кричал, что никогда больше не будет Дунаем, не даст ложки даже понюхать и мы насидимся без мороженого. А когда и это не действовало, начинал всерьез грозить:
— Диди скажу-у... Папе скажу-у...
— Докладчику — первый кнут, — говорил Ники.
— Пусть кнут, а я скажу.
— Ну замолчи, Володя, — начинал уступать Ники, — я тебе жалую медаль.
— Какую? — спрашивал я.
— В ладонь, — отвечал Ники.
И тогда я, уже от полной души, говорил:
— Рад стараться, Ваше Императорское Высочество.
Тогда же Жорж смирялся, лез к Ники на кровать и начинал вести с ним переговоры о медали. Начиналась торговля.
— Сколько раз Дунаем будешь? — деловито осведомился Ники.
— Два раза буду.
— Мало два раза. Сто раз, — требовал Ники.
— Двести раз буду.
— Нет, сто.
— Сто много. Буду двести.
— Двести мало, требую сто.
— Сто, — тогда две медали.
— Ну, хорошо. Две так две. Ты маленький.
— Я маленький. Мне надо две.
— Маленькие по две не носят. Где это ты видел?
— Я видел.
— Врешь.
— Ей-Богу, не вру. Видел.
— Божиться грех, дурачок.
— Значит, жалуешь две?
— Две. Иди спать.
Жоржик счастливо вздыхал и шел к себе.
Ники вдруг что-то вспоминал, приподнимался и угрожающе говорил Жорку:
— Но только, чтобы животом вверх лежать! Жорж вздыхал и отвечал:
— Животом так животом. За живот третью медаль потребую. Не дашь — папе скажу.
И, как по команде, все сразу засыпали, удовлетворенные, что жгучие вопросы жизни благополучно разрешены...
Время от времени во дворец приводили каких-то высокорожденных мальчиков «для принятия участия в играх Их Высочеств», как это на суконном языке именовалось. Мальчики эти были не чета нам, псковским, необыкновенно воспитаны, выдрессированы, отлично понимали оказанную им честь и всем от усердия шаркали ножками, даже проходящим лакеям. У них уже было твердое и дальнозоркое представление и о важности двора, и соображения карьерности, и настороженное внимание ко всему, и то подмечание глаз, которое обыкновенно характеризует людей себе на уме. С переляку они и меня тогда именовали высочеством, понимая, что кашу маслом не испортишь, а я, в порыве великодушия, отводил их в сторону и тихонько, на ушко, жаловал им медали. Они шаркали ножкой и как-то по-особенному, головкой вниз, кланялись. Все почти, как на подбор, они были рыжие, и это в наших глазах их делало не симпатичными. В припадке ревности я даже выучил Великих Князей песенке, которую распевали у нас, на Псковской улице:
Рыжий красного спросил,
Чем ты бороду красил?
Я не краской,
Не замазкой, —
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.
Определенного мотива этой песенки у нас не было, мы всегда пели его импровизацией, и Жоржик, надув шею, всегда брал самого низкого баса, подражая своему кумиру в церковном хоре. И вообще у него необыкновенно были развиты подражательные способности и он не раз морил нас со смеху.
Эти посещения рыжих мальчишек навели меня на мысль о необходимости подписать договор дружбы. Мысль была принята с большим воодушевлением. дело было сделано так. Из новой тетради вырвали лист бумаги, и я, в подражание крови, мамиными красными чернилами написал, как мог: «Дружба на веки вечные, до гроба». Потом, памятуя, как после смерти отца мать подписывалa через марку какие-то бумаги (это ослепило раз и навсегда мое воображение), я и теперь решил исполнить эту формальность. Путем долгих переговоров с Аннушкой я упросил ее купить в мелочной лавочке три марки, и Аннушка за девять копеек привезла мне три какие-то красненькие марки. Мы столбиком наклеили эти марки на договоре дружбы и потом расписались. Первым поставил свою подпись Ники и вывел ее через марку каракулями несгибающимися линиями. Я подписался с росчерком «Володя», а Жоржику, как малограмотному, предложили поставить крест. И он поставил его с необычайной твердостью и правильностью. У него была крепкая и уверенная рука. Он без линейки проводил совершенно и безукоризненно правильную линию, — признак художественного дарования. Он рисовал чрезвычайно верно всякие предметы, особенно лошадей и собак. Детям нужна тайна, и с необыкновенными и изобретательными предосторожностями в какой-то жестяной коробочке мы зарыли договор дружбы под деревом в Аничковом саду. Потом забыли, и этот договор, быть может, и до сих пор в целости лежит на своем месте. Если не изменился пейзаж сада, я, пожалуй, и теперь бы его отыскал.
Рыжих мы не любили. Рыжие нанесли нам тяжкое оскорбление: когда Жоржик предложил им сахарного мороженого из мокрого песку, — рыжие поголовно все шаркнули ножкой и отказались. Тогда мы им спели песенку про бороду: рыжие вежливо слушали и криво улыбались: фу, какие противные! Их карьера в Аничковом дворце была кончена. Когда провозглашалась угроза:
— «Завтра будут мальчики», — то Великие Князья с редким искусством начинали дуэт: «Не надо рыжих...» А Жоржик невпопад обмолвился:
— К чолту рыжих! — что произвело колоссальное смущение, и мама нюхала спирт.
Как чудесно и таинственно было сознавать, что неподалеку, рукой подать, в садовой земле зарыты такие сокровища, как договор дружбы и стеклянная ложка! У нас было особенное многозначительное, в присутствии других, переглядывание, понятное только нам. Были особые, вроде масонских, знаки пальцами, — как-то: если я поднял большой палец мякотью к Ники, то это значило: «Дай списать задачу». Если я его поднял ногтем к нему, то это значило: «Надо произвести шум для отвлечения внимания». Мы так разработали эту систему, что иногда вели целые молчаливые беседы, как глухонемые. И это было таинственно и прекрасно, и дружески связывающе.
В годах: 1876, 1877, 1878 и 1879, — все предметы, начиная с грамоты, преподавала одна моя мать по программе для поступления в средние учебные заведения. Когда эта программа была выполнена и для дальнейших занятий был намечен ген. Данил`ович, была приглашена особая комиссия, которая произвела экзамен Великому Князю. Экзамен прошел блестяще (о нем я расскажу подробнее позже), и о результатах было доложено Августейшим Родителям и новому воспитателю ген. Данил`овичу. Генералу же Данил`овичу было предложено пригласить преподавателей по своему усмотрению, — тогда были приглашены гг. Коробкин (математика), Докучаев (русский язык), протопресвитер Бажанов (Закон Божий) и забыл фамилию преподавателя географии и истории. Много позднее были приглашены преподаватели: по французскому языку — мсье Дюпперэ и немец Лякоста.
По окончании своей трудной и ответственной работы мама получила от Августейших Родителей большую бриллиантовую брошь с вензелями: «АМ» и датою: 1876-1879. Это было дано при уходе матери из дворца, и это была брошь самая роскошная, но и ранее, после каждого учебного года, Родители так же дарили маме броши бриллиантовые, но более скромные и обязательно со своими вензелями. Где-то они теперь, эти царские броши, которые когда-то хранились, как семейные реликвии?
Теперь нужно вспомнить и рассказать, как Аничков дворец встречал Святую Пасху.
Страстная неделя была неделей постной, — постной относительно, конечно. К столу продолжали подаваться масло, молоко и яйца, но мяса с четверга уже не полагалось. В Страстную пятницу с Императорского фарфорового завода привозилась груда фарфоровых прелестных яиц, различных размеров. Эти яйца предназначались для христосования со всеми служащими во дворце. Большие яйца, очень дорогие, вероятно, получали лица, близкие к Августейшей Семье. Меньшие размеры полагались персоналу, обслуживавшему дворец. Начиная с Великого четверга, церковные службы происходили как и везде, то есть вечером — двенадцать Евангелий, которых мы, дети, не достаивали: Родители слушали их до конца. На увод детей из церкви разрешение у Родителей всегда испрашивала мать, и мы, признаться, бывали рады, когда она отправлялась за занавеску. (Царская Семья была отделена от остальных молящихся особой бархатной занавесью у правого клироса. В церковь же был свободный доступ для всякого служащего при дворце.) В пятницу был вынос плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Чин выноса, торжественный и скорбный, поражал воображение Ники, он на весь день делался скорбным и подавленным и все просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Глазенки его наливались слезами, он часто говаривал, сжимая кулаки: «Эх, не было меня тогда там, я бы показал им!» И ночью, оставшись одни в опочивальне, мы втроем разрабатывали планы спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти Его и не спас.
Помню, я уже задремал, когда к моей постельке подошел Ники и, плача, скорбно сказал:
— Мне жалко, жалко Боженьку. За что они Его так больно?
Подскочил и Жоржик и тоже с вопросом:
— Плавда, за что?
И до сих пор я не могу забыть его больших возбужденных глаз. Время до воскресения дети переживали необычайно остро. Все время они приставали к маме с вопросами:
— Боженька уже живой, Диди? Ну скажите, Диди, что он уже живой. Он уже ворочается в своей могилке?
— Нет, нет. Он еще мертвый, Боженька.
И Ники начинал капризно тянуть:
— Диди... Не хочу, чтобы мертвый. Хочу, чтобы живой...
— А вот подожди. Батюшка отвалит крышку гроба, запоет: «Христос Воскрес», — тогда и воскреснет Боженька...
— И расточатся врази Его? — тщательно выговаривал Ники непонятные, но твердо заученные слова.
— И расточатся врази Его, — подтверждала мать.
— Я хочу, чтобы батюшка сейчас сказал: «Христос Воскрес»... Вы думаете, хорошо Ему там во гробе? Хочу, чтобы батюшка сейчас сказал... — тянул капризно Ники, надувая губы.
— А этого нельзя. Батюшка тебя не послушается.
— А если папа скажет? Он — Великий Князь.
— И Великого Князя не послушает.
Ники задумывался и, сделав глубокую паузу, робко спрашивал:
— А дедушку послушается?
— Во-первых, дедушка этого не прикажет.
— А если я его попрошу?
— И тебя дедушка не послушается.
— Но ведь я же его любимый внук? Он сам говорил.
— Нет, я — его любимый внук, — вдруг, надувшись, басом говорил Жоржик. — Он мне тоже говорил.
Ники моментально смирялся: он никогда и ни в чем не противоречил Жоржику. И только много спустя говорил в задумчивости:
— Приедет дедушка, спросим.
На самом же деле любимицей Императора Александра Второго была маленькая Ксения. Приезжая во дворец, Император не спускал ее с колен, тетешкал и называл: «моя красноносенькая красавица».
Несмотря на все недостатки воспитания, слишком оторванного от земли, теперь, с горы времен, мне это видно, несмотря на оторванность от живой жизни, дети оставались детьми и ничто детское им не было чуждо. Привозились самые занятные, самые драгоценные игрушки, сделанные в России и за границей, но все это занимало их внимание только какой-то первый момент. Иное дело выстроить из песку домик для дедушки, или из снегу — крепость для защиты России, — это было свое, это было драгоценно. Каждый день летом подавалось мороженое, сделанное по драгоценным рецептам. Это имело успех, но что это было в сравнении с тем мороженым, которое мы сами делали из песку с водой? Продавцом этого мороженого был всегда, к нашей глубокой зависти, Жоржик. У него была какая-то ложка, сделанная из битой бутылки, и эта ложка, сделанная нами самими, хранилась под заветным деревом в саду и была произнесена страшная клятва, чтобы никому, даже дедушке, не выдавать ее местопребывания.
И потому, когда я сказал, что иду сейчас в мамину квартиру, где Аннушка красит яйца, — то впечатление было такое, будто гром ударил среди ясного неба!
Что такое: красить яйца? Как это так: красить яйца? Разве можно красить яйца? И, в сравнении с этим любопытством, чего стоили все писанки, изготовленные на Императорском заводе.
Вырваться из царских комнат не так-то легко, и тут нужен был весь опыт приснопамятной Псковской улицы, чтобы выбраться в эту сложную и трудно-одолимую экспедицию. Нужно было главным образом преодолеть бдительность мамы. На наше счастье, ее, через посланца, вызвала к себе М.П. Флотова в четвертый этаж. И не успела еще отскрипеть веревка лифта, как мы, всей компанией, пробрались в заветный коридор, встретив на пути одного только Чукувера, который нес к себе какие-то пакеты и не обратил на нас ни малейшего внимания.
Аннушка делала какую-то особенно прочную краску из лукового настоя, который разводила в глиняной миске. Вся мамина квартира пропахла луком, так что Ники даже осведомился:
— Чего это так в глаза стреляет?
Но когда он увидел, как обыкновенное белое яйцо, опущенное в миску, делается сначала бурым, а потом — красным, — удивлению его не было границ. Аннушка, добрая девка, снизошла к нашим мольбам, засучила нам троим рукава, завесила грудь каждому какими-то старыми фартуками и научила искусству краски. И когда изумленный Ники увидел, как опущенное им в миску яичко выкрасилось, он покраснел от радости и изумления и воскликнул;
— Это я подарю мамочке!
Мать вернулась от Марьи Петровны, хватилась нас, безумно испугалась. Кинулись в сад — нас нет. В кухню — нас нет. Подняли всю дворню на ноги, поднялся шум, суматоха, и тут всех выручил Чукувер. Нас нашли, но в каком виде! И тут оба Великих Князя оказали бурное сопротивление: ни за что не хотели уходить из кухни Аннушки, — Жоржик даже брыкался. Разумеется, мне, как заводиловке, влетело больше всех. Влетело и Аннушке, а Аннушка огрызалась.
— Ну что ж что царята? Дети как и есть дети. Всякому лестно.
Забрав в руки плоды своего искусства, мы, под стражей, с невероятно вымазанными руками, следовали на свою половину. Мать принимала валериановые капли, услужливо поднесенные целителем Чукувером. А для нас весь мир исчез. Важно было донести целыми и не раздавить яички, предназначенные то маме, то папе, то дедушке.
Начали мыть нам руки, принесли песку, но краска так и не отмылась до самой Фоминой.
Во время христосования отец Ники вдруг потянул носом и спросил:
— Что-то ты, брат, луком пахнешь, а?
И тут заметил его неоттертые руки.
— А ну ты, Жорж? Ты, Володя?
Понюхал всех. От всех несло луком.
— В чем дело?
Мать со слезами объяснила происшествие. Александр Александрович расхохотался на весь дворец.
— Так вы малярами стали? Молодцы! А где же ваша работа? Мы бросились в опочивальню и принесли свои узелки.
— Вот это папе, это маме, это — дедушке.
Александр Александрович развел руками.
— Вот это — молодцы, это — молодцы! Хвалю. Лучше всякого завода. Кто научил?
— Аннушка.
— Шаль Аннушке! И пятьдесят рублей денег. А вам по двугривенному. Сколько лет живу на свете, — не знал, что из лука можно гнать краску!
И через несколько минут после его ухода нам принесли по новенькому двугривенному.
Однажды ламповщик, прихода которого мы с тайной в душе поджидали, прошел в свое обычное время, со своими обычными машинами, в игральную комнату. Хотя мамы с нами не было и в особой таинственности нужды тоже не было, — все-таки мы с Ники показали друг другу пальцы в том их сочетании, которое значило «нужно идти к ламповщику».
Распевая искусственную песенку: та-ра-ра-ра-а и почему-то глядя в потолок, заложив руки за спину, я, как ни в чем не бывало, вдоль стен пробираюсь в игральную. И так же запев песню без определенного мотива, собственного сочинения, следом за мной последовал Ники. Жоржа было брать опасно: по неопытности или по озорству разболтает — и тогда прощай сладчайшая тайна, которая красит жизнь! Но от наблюдательного взора Жоржа трудно было уйти. Он сначала сделал вид, будто ничего не понимает в наших демаршах и ни на что будто бы не обратил ни малейшего внимания, но, выждав время, нагрянул по нашим следам и застал нас на месте преступления.
Ламповщик, тоже таинственно оглядываясь, подальше от окна, достал из-за пазухи какую-то бумагу, сладковато и непонятно пахнувшую и свернутую трубкой, и таинственно же развернул ее. Бумага не поддавалась и завертывалась углами. Ламповщик начал ее свертывать с противоположной стороны, и при этой манипуляции мелькнуло что-то нарисованное. Жоржик, уследив нарисованное, пришел немедленно в большое волнение.
— Калтинка! — с восторгом прошептал он.
— Не калтинка, а картинка, — сердито поправил его Ники, недовольный, что Жорж появился в игральной.
— Калтинка! — продолжал стоять на своем Жоржик. Это оказался лубок довольно большого размера, изображавший в медальонах героев русско-турецкой войны. Ламповщик, водя по лоснистой поверхности лубка твердым ногтем, представил шепотом нам всех героев-генералов, и нам почему-то особенно запомнились Радецкий и Гурко (Жоржик, вызывая наше патриотическое возмущение, говорил: «турка»). Тут же были портреты и турецких полководцев в фесках, и особенно был интересен Осман-паша. Жоржик раскрыл ротик и прошептал:
— Я хочу такую.
— Что «такую»? — сердито спросил Ники.
— Такую... Шапочку...
— Э, — сказал ламповщик, — кто в Бога верует, тому нельзя. Посередине, в отличном от других большом медальоне, был нарисован дедушка с синими усами, и это привело Великих Князей в состояние необыкновенной гордости:
— У всех усы черные или белые, а у дедушки синие.
— Нет, — медленно вращая языком, говорил Жоржик, — у дедушки не синие...
— Как не синие? — сердился взволнованный Ники. — А это что? Конечно, синие.
— Нет, у дедушки серо-буро-малиновые, — ответил Жоржик. И я до сих пор не могу понять, откуда и как, какими путями в затворническую головенку маленького Жоржика могла залететь эта простонародная насмешливая фраза? Где он ее подслушал и как? Повторяю еще раз, что по остроте наблюдательности Великие Князья шли далеко впереди меня.
— У меня тоже будут усы синие, — сказал Ники и от носа протянул рукой до уха, показывая величину будущих усов.
Ламповщик, все с непрекращающейся таинственностью, оставил нам картинку с генералами, и мы с трепещущим сердцем поняли, что наших сокровищ прибавилось.
Но как и куда спрятать ее от посторонних взоров? Я предложил проект зарыть ее в саду вместе с договором, но Ники не согласился и сказал:
— Ну как же в саду? А если ночью посмотреть захочется?
И с редкой для ребенка изобретательностью (это я теперь понимаю) предложил вовсе не прятать ее, а положить небрежно среди игрушек, как самую обыкновенную вещь.
— Мама заметит! — говорил я испуганно.
— А я тебе говорю: не заметит, — отвечал Ники и оказался прав. На картинку никто и никогда не обратил внимания.
И вот однажды приехал в Аничков дворец навестить своих внуков дедушка, Император Александр Второй. Боже! Какой это был дедушка и какое счастье было иметь такого дедушку!
Во-первых, от него очаровательно пахло, как от цветка. Он был веселый и не надутый. В его глаза хотелось бесконечно смотреть. В этих глазах сидела такая улыбка, за которую можно было жизнь отдать. И как он умел играть, этот милый дедушка, и какой мастер был на самые забавные выдумки! Он играл в прятки и залезал под кровать. Он становился на четвереньки и был конем, а Жоржик — ездоком, и конь кричал:
— Держись тверже, опрокину!
Потом садился на стул, как-то отодвигал в сторону лампу, начинал по-особенному двигать пальцами, и по стенке начинал бегать то заяц, то горбатый монах. Мы смотрели разинув глаза и не дышали. Дедушка начинал учить нас складывать пальцы, но у нас не выходило, он вытирал с лица пот и говорил:
— Ну потом как-нибудь, в другой раз... Когда подрастете.
Он был счастлив с детьми, этот дедушка, как-то по-особенному и по-смешному умел щекотать нас за ушами и подкидывал маленькую Ксению чуть не под потолок, и она, падая ему в руки, как-то вкусно всхлипывала, смеялась и кричала:
— Еще, еще!
Император в изнеможении бросался в кресла и, как после танцев, широко обмахивался платком, а потом опять набирался сил и искал свои перчатки. Как сейчас вижу эти ослепительно белые, просторные перчатки. Император заводил два пальца в перчатку, и перчатка начинала тоненьким голосом разговаривать:
— А отчего у Жоржика вихор на затылке? А отчего у Ксеньюшки носик красненький?
И вдруг подходит к нему Жоржик, втирается меж колен и спрашивает:
— А отчего, дедушка, у тебя сегодня синих усов нет? Ты их дома оставил?
Дедушка вдруг опешил и спросил:
— Какие синие усы? Что ты, брат, выдумал?
— Ты сегодня другие усики надел? — приставал Жоржик. — Тебе синие надоели? Если надоели, подари мне. Мне очень нравятся синие усы. Я буду на тебя похож.
Император несколько мгновений с изумлением смотрел на внука.
— Ничего не понимаю, брат. Что ты тут несешь?
— Я тебя спрашиваю, где твои синие усы? — продолжал нараспев Жоржик, крутя то пуговицу, то аксельбант.
— Но, друг мой, у меня никогда синих усов не бывало, — говорил Император.
— Нет, бывало, — упорствовал Жоржик.
— Я видел.
— Где ты видел?
— Я видел.
— Выдумал, братец. Во сне видел?
— Нет, не во сне. На картинке.
Мы с Ники обомлели и показали друг другу пальцы в самой замысловатой позиции, что означало: пропали.
— На какой картинке?
— На очень хорошей картинке. Хочешь, покажу?
— Ну, пожалуйста, мой друг, буду очень любопытен.
Жоржик, не взглянув на нас, медленно проследовал в игральную комнату. Ники снова шевельнул пальцами, скрючил средний, вышло: пропали!
А из игральной уже показался Жоржик с заветной картиной. Все притихли, насторожились. Я взглянул на маму и увидел, что она — краше в гроб кладут.
Жоржик медленно и неуклюже разворачивал картинку. Император ему помог, вытягивая ее углом. Развернули, и торжествующий Жоржик сказал, показывая пальчиком:
— Видишь? Синие.
Император внимательно посмотрел и серьезно ответил:
— Ты — прав. Синие. Господа! Саша! взгляни. Усы действительно небесного цвета.
— Ха-ха-ха! А что же это вообще такое?
— Это — генералы, — храбро выступил Ники. — Всех знаем. Можете спросить.
— Ну, вот это кто?
И Ники рапортовал:
— Это Его Императорское Высочество, Великий Князь, Наследник Цесаревич Александр Александрович.
— Наш папа, — вступил Жоржик.
— А это? — экзаменовал удивленный Император.
— Это Осман-паша. Дедушка! Купи мне, пожалуйста, такую шапочку. Мне очень хочется.
— Нельзя! — ответил строго Ники. — Вера не позволяет.
— Правильно. На двенадцать баллов, — сказал Император, еще более удивленный, и, повернувшись к удивленному сыну, спросил: — Но они у тебя совершенно замечательные!..
Я торжествующе посмотрел на маму и с немалым удивлением увидел, что она как-то странно ловит ртом воздух. Бедная мамочка! Ей эти наши штуки стоили страшной болезни печени, которая и свела ее совершенно преждевременно в могилу.
— Но это же замечательно!
И поняв, что наши дела имеют успех, мы наперегонки стали рассказывать про ламповщика. И Император умиленно сказал:
— Пари держу, что это папин солдат.
И тут, забыв нас, взрослые заговорили очень оживленно, и дедушка, размахивая своим легким, как пух, платком, начал оживленно держать речь:
— Лучшими учителями детей, самыми талантливыми, были всегда папины солдаты, да-с! Не мудрствовали, никакой такой специальной педагогики, учили по букварю, а как учили! Молодец солдат! Передайте ему мое спасибо! Один такой солдат лично мне со слезами на глазах говорил однажды: где поднят русский флаг, там он никогда уже не опускается. А Ломоносов?
Мама не знала, что ей делать и за что зацепиться. Мы вдруг выбыли из центра внимания, и Жоржик подцепил дедушкины перчатки, от которых так восхитительно пахло, как от цветка. Жоржик подошел к дедушке и сказал: — Дедушка, подари мне эти перчатки.
Дедушка не расслышал вопроса, машинально подтянул Жоржика к себе и усадил на колени. Жоржик с гордостью посмотрел на нас и весь ушел в созерцание перчаток.
И вот теперь, через такую уйму времени, я, как в двух шагах, вижу эту восхитительную сцену: великого Императора Российского и маленького хорошенького мальчика, уютно устроившегося у него на коленях. Император не обращает на него никакого внимания, продолжает живой и, видимо, интересный разговор, а Жоржик тянется к его лицу и волосок за волоском перебирает сильно поседевшие усы. И когда Императору больно, то он отдергивает Жоржикову руку, тот выждет время и опять за свое.
Какая семья! И отчего у меня нет такого дедушки? И вообще почему я такой неудачливый? Нет ни дедушки, ни отца: одна — мама. Я подхожу к ней, хочу приласкаться и слышу, как она дрожит мелкой лихорадкой.
Вспоминаю теперь, — это был очень интересный и памятный момент моей жизни, когда я впервые и вдруг почувствовал свое превосходство и, так сказать, взрослость над царскими детьми.
Я рассказывал, как перед Светлым Праздником мы, всей компанией, красили яйца в комнате Аннушки, как эти яйца в торжественный момент были, после христосования, поднесены Августейшим Родителям, как те пришли в восторг от трогательной детской инициативы и как за это дело Аннушке была пожалована шаль с каймой расписной, с пятьюдесятью рублями, а нам — по новенькому двугривенному.
Эти двугривенные серьезно и надолго поразили воображение маленьких Великих Князей.
— Что это такое? — надув от усердия губы, спрашивал Георгий. — Колесико?
Я разразился презрительным смехом: Боже! Не знать таких вещей и волшебный двугривенный (потом в Корпусе его называли по-татарски «абазом») считать колесиком! Ха-ха-ха!
— А вот орлик, — продолжал Георгий, водя пальчиком, — а вот что-то написано по русскому языку...
— Двадцать копеек написано, вот что! — с необычайной гордостью сказал я. — А что такое двадцать копеек? — продолжал любознательный Георгий.
— Это восемь пирожков, — объяснил я.
— Восемь пирожков? — теперь, в свою очередь, спросил Ники, тоже призадумавшийся над хорошенькой и сверкающей монеткой. — Как это восемь пирожков?
— Ну да, за нее дадут восемь пирожков или двадцать маковок, четыре карандаша черных или три карандаша красный-синий. За нее дадут шесть тетрадок и еще две копейки сдачи.
— Ты еще скажешь, и промокашку дадут? — спросил Ники, смотревший на промокательную бумагу, как на вещь волшебную.
Он очень любил нарочно писать густо, с нажимом, и потом сейчас же сразу промокнуть и смотреть, как все это волшебно впитывалось и отпечатывалось на рыхлой розовой бумаге и все шиворот-навыворот. Между прочим, промокательная бумага тогда считалась большой редкостью, в быту больше пользовались песочком. А потом через зеркало рассматривать, как все и сразу стало на место.
— И промокашку, — подтвердил я.
— Ну, уж это ты врешь, — сказал Ники.
— Спросим Диди.
— Спрашивай.
— Давай спорить!
— Давай. На что?
— Под стол лезть.
— Идет.
— Нет, — переключился Ники. — Ты отдашь мне своего воробья. Я был уверен в результатах спора, но рискнуть воробьем даже и в этом случае не решился. А вдруг, чем черт не шутит?
— На воробья спора нет, — твердо сказал я.
— Ага! — восторжествовал Ники.
— Значит, врешь.
— Значит, врешь, — автоматически отозвался, как всегда, Жоржик.
Этого воробья я в холодный день как-то подобрал в Аничковом саду. По всей вероятности, он выпал из гнезда, беспомощно лежал на траве и, закрыв глазки, показывая белую пленку, тяжело дышал. Я тихонько взял его на ладонь и, зная правила птичьей медицины, стал на него дышать. Потом сделал ладони горсточкой и воробьенку стало теплее и стало похоже на гнездо.
Ники и Жоржик стояли около меня, затаив дух. Я казался им великим человеком.
— Он, может, кушать хочет? — спросил потом Ники.
— Сначала отогреть, — сурово сказал я.
— Отоглеть, — машинально и автоматически повторил Жоржик.
— А потом крутое яйцо, — диктовал я линию поведения.
— Яичко, — повторил Жоржик.
Воробей лежал без движения.
— Он, может, мертвенький? — робко спросил Ники.
— Ничуть. Смотри на живот, — сурово говорил я, — видишь, как ходит туда-сюда животик?
— Вижу, — сказал вместо Ники Жоржик, поднявшийся на цыпочки.
— Надо на кухню, — вдруг сообразил я и помчался на кухню. Великие Князья — неотступно за мною.
И вот, первый раз в жизни, мы очутились в волшебном дворце огня и вкусного масленого тепла.
Кстати. Раз уже зашло дело о кухне, постараюсь рассказать, как в Аничковом дворце было поставлено дело питания. Разумеется, все эти подробности в описываемый период наших детских лет меня не интересовали и их я узнал уже много лет спустя, офицером, из рассказов матери, которая до конца жизни не переставала интересоваться дворцом и его внутренней жизнью.
На служебных квартирах никаких кухонь не полагалось: служебный персонал дворца должен был столоваться из дворцовой же кухни на особых основаниях. Дома разрешалось только варить утренний кофе и мыть грязную посуду.
Великокняжеская кухня была организована по ресторанному образцу. Во главе кухни стоял повар, француз, который там же имел квартиру. Кухня была у него на откупу, так сказать. Обеды отпускались по трем разрядам: первый разряд стоил семь рублей за обед и ужин; второй — пять рублей и третий — три рубля. Для прислуги такса была свободная. Каждый день, как в первоклассном ресторане, составлялось большое и сложное меню, написанное фиолетовыми чернилами, за которым часов в одиннадцать утра являлся сверху камер-лакей и нес его на показ к Великой Княгине Марии Феодоровне. Если великокняжеская чета завтракала у себя во дворце, то меню тут же определялось и заказ с обратным камер-лакеем спускался в кухню для своевременного дополнения. Но великокняжеская чета очень редко кушала у себя во дворце: каждый день в одиннадцать часов утра она отправлялась в Зимний дворец и там проводила весь день у Императора-Отца. Говорили, что Император требовал постоянного присутствия во дворце сына и Наследника для того, чтобы тот был в курсе государственных дел; другие говорили, что сам Александр Александрович боялся, что отец даст конституцию и для того, чтобы это предтвратить, ежедневно, с утра до ночи присутствовал в Зимнем дворце. Одним словом, они сами ели у себя, в Аничковом, очень редко и благами великокняжеской кухни пользовались обыкновенные смертные и в особом восхищении не были. Откупщик повар очень часто злоупотреблял своим положением безнаказанности (не пойдешь же жаловаться Великому Князю на кухню?) и ставил продукт не всегда доброкачественный. Разумеется, он отлично знал, что и кому. Так, М.П. Флотовой подавалась пища из котла, так сказать, великокняжеского, и тут жаловаться было, пожалуй, не на что: и количество, и качество было на одинаковой высоте, — поди не угоди Марье Петровне, которая все время при Великой Княгине, скажет словечко между прочим, и пойдет писать губерния. А так служащий, обыкновенный, не приближенный, — тот и потерпит, и деньги безропотно заплатит. Но в знак протеста многие, если представлялась возможность, шмыгали есть в ближайшие трактиры, где и свобода полная была, и почтение, и за целковый — кум королю.
Когда мы с воробьем влетели в кухню, то были все единодушно потрясены. Мне с первого абцуга показалось, что мы попали в церковь: высоченные полки, люстры и масса духовенства в белом. Какие-то огромные чаши золотистого оттенка, серебряные ножи и, как на картинах Иорданса, туши огромных серебряных рыб (осетры), горы овощей и кровавого, почти дымящегося черкасского мяса. Что-то шипит, что-то булькает, куда-то торопится, перегоняет друг друга, пахнет ароматным русским маслом (такого нет нигде в мире), слышится артистически-музыкальный стук ножей, рубящих мясо, и первый раз слышу, какая-то командующая речь, не то русская, не то не русская, не то полурусская: это с французским акцентом истерически и пренебрежительно командовал главный повар, он же — акционер:
— Дай графинюшку вина! — повелительно кричал он, в неопределенном направлении протягивая красную, южно-волосистую руку, — и ему с царским почтением поваренок протягивал бутылку с французской надписью, и повар, как Санчо Панса, минуты две смотрел в потолок. Жара была невообразимая, нас никто не заметил, мы стояли в отдалении, разинув рот, удивляясь необычному и невиданному зрелищу, и, вероятно, от насыщенного масленого тепла и воробей, находившийся в руке, начал шевелиться и приходить в память. Еще немного спустя он спрятал белесоватые веки и открыл слезливо-желтенькие глазки. Великие Князья подняли радостный шум, и тут наше инкогнито было впервые открыто. В секунду весь состав кухни окружил нас самым почтительнейшим образом. Француз пришел в восхищение самое полное и начал благодарить Великих Князей за милостивое посещение. Тогда я выступил вперед и важно заявил:
— Нам нужно крутое яйцо для питания птицы.
И сейчас же по кухне раздался миллион эх, если только так можно сказать: «им нужно крутое яйцо... Да, крутое яйцо... Одно крутое яйцо... Для их птицы... Для великокняжеской птицы... Скорее, скорее кипяток, скорее, скорее яйцо, самое лучшее яйцо!» И тут до моего сознания в первый раз донеслась вся прелесть пребывания в великих князьях. Да, вот они, эти два маленьких мальчика, хозяйствуют здесь: все — для них, и все — через них, все — добро зело. Все люди, красные, в страшных накрахмаленных колпаках, вытянулись, на лицах написан восторг, и казалось, что все не знают, куда броситься. Ники, под самые глаза, в бархатном футляре, поднесли меловито вымытое яйцо на показ и одобрение, и потом сам француз благоговейно опустил его в кастрюльку с кипятком. Ни один воробей, с самого сотворения мира, не имел пищи, приготовленной с таким умопомрачительным почетом.
— Дайте ваты! — сказал я и откуда бы на кухне могла быть вата? Но вата, большой и пушистый кусок, появилась немедленно и тоже не просто, а на каком-то серебряном подносе, как ключи от завоеванного города. И, несмотря на весь этот почет, моя трезвая, санчопансовская голова тревожилась только об одном: как бы из всего этого приключения не получилось крупных неприятностей с головомойкой, так как я не мог не понимать, что визиты на кухню никак не могли входить в программу нашей жизни. «У нас же — не как у людей», — размышлял я и рассчитывал только на то, что спасенный воробей из благодарности должен умолить Бога. Я отлично помнил слова Аннушки, однажды сказавшей:
— Если хочешь молитвы к Богу, то ни поп, ни чиновник не поможет. Проси зверя, чтоб помолился. Зверю у Бога отказу нет.
И я мысленно обратился с этой просьбой к воробью. Воробей, закутанный в вату, смотрел на пролетавших мух неодобрительно, и каковы его думы — сказать было трудно.
Мои думы о молитве были переданы по наитию Ники, и Ники вдруг сказал:
— Надо помолиться за воробушка: пусть его Боженька не берет, — мало у Него воробьев?
И мы, вообще любившие играть в церковную службу, внимательно за ней следившие, спрятавшись за широкое дерево, отслужили молебен за здравие воробья, и воробей остался в живых. Мы поместили его на Аннушкиных антресолях и имели за ним отцовское попечение. Воробей вскорости не только пришел в себя, но и избаловался, потерял скромность, шумел, клевался, и на семейном совете мы решили даровать ему свободу и открыли окно. Воробей выскочил на подоконник, понюхал осенний петербургский воздух, неодобрительно покрутил носом и важно вошел обратно в комнату. Воробей был не из дураков и отлично знал, что, глядя на зиму, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Мы только что были на крестинах новорожденного Великого Князя Михаила Александровича и видели, как это дело делается. Решено было воробья обратить в христианскую веру. Надев скатерти на плечи, мы обмакнули его в стакане с подогретой водой и назвали воробья Иоанном. Иоанн после этого долго фыркал и был в раздражении. Я был протопресвитером, Ники — протодиаконом, Жоржик — крестным отцом, а Аннушка, дико и неуместно хохотавшая, — кумою.
ЦЕРКОВЬ ДВОРЦА. ПРИЕЗД НЯНЬ
Наша детская дворцовая жизнь текла невероятно однообразно. Я не помню ни одного хотя бы раза, когда нас, детей, взяли бы, например, в театр. Единственным нашим развлечением было посещение богослужений и летом переезд в Гатчину, на дачное житье.
Богослужения в домовой церкви Аничкова дворца совершались, как и везде: накануне праздника — всенощная, на другой день — обедня. Службы совершал, если не изменяет мне память, протопресвитер Бажанов в сослужении протодиакона. Пел уменьшенный состав Императорской певческой капеллы. Всенощная начиналась в 6 часов вечера, а обедня — в 10 утра. О том, будет ли присутствовать на богослужении Августейшая семья, протопресвитеру сообщалось устно через гоф-курьера, и служба не должна была начинаться раньше, чем семья не войдет в церковь. Семья входила, делала почтительный поклон священнослужителям, и только тогда раздавался бархатный бас протодиакона:
— Восстаните, Господи благослови.
Со стороны никто в церковь не допускался, но все богослужения разрешалось посещать служащим дворца и их семействам.
Всенощные бдения под воскресные дни посещались хозяевами дворца сравнительно редко, но все службы под праздники двунадесятые выстаивались обязательно.
Дети одни, без родителей, в церковь не ходили по следующей причине: по придворным правилам, царская семья во время богослужения молилась на правом клиросе за особой бархатной занавесью, которая скрывала их от постороннего глаза. Одних же детей, без надзора, оставлять не полагалось. Вход же за занавеску посторонним лицам, даже моей матери, как воспитательнице, не разрешался. Тогда все маленькие сидели дома и очень огорчались: пение хора доносилось издалека, а пел хор воистину по-ангельски. Потом: в каждой службе есть начало театральное, с выходами, каждением, миропомазанием, с речитативами возгласов и ектений, с освящением елея и пяти хлебов и, особенно, с раздачей северных пахучих и нежно-пушистых верб: это радовало детский взор, удовлетворяло наблюдательность и пробуждало художественные и эстетические восприятия. И потом все это было так далеко от повседневной обычной жизни, от суеты дворца: церковные слова звучали торжественно и, часто, непонятно, и загадочно, и заклинательно, — все это было в полном смысле добро зело.
В Ники было что-то от ученика духовного училища: он любил зажигать и расставлять свечи перед иконами и тщательно следил за их сгоранием: тогда он выходил из-за занавески, тушил огонек, — и огарок, чтобы не дымил, опрокидывал в отверстие подсвечника, — делал это истово, по-ктиторски, и уголком блестящего глаза посматривал на невидимого отца. Заветным его желанием было облачиться в золотой стихарик, стоять около священника посередине церкви и во время елеепомазания держать священный стаканчик.
Ники недурно знал чин служб, был музыкален и умел тактично и корректно подтягивать хору. У него была музыкальная память и в спальной, очень часто, мы повторяли и «Хвалите» с басовыми раскатами и аллилуйя и, особенно, — «ангельские силы на гробе твоем». Если я начинал врать в своей вторе, Ники с регентской суровостью, не покидая тона, всегда сурово говорил:
— Не туда едешь!
Память у него была острая, и, надев скатерть вместо ризы, он читал наизусть многие прошения из ектений и, напружинив голос до диаконского оттенка, любил гудеть:
— О благочестивейшем, самодержавнейшем великом Государе нашем... О супруге его...
А я должен был, и обязательно в тон, заканчивать:
— Господи, помилуй...
И так как протодиакон, обладатель превосходного бархатного баса, и происходивший, очевидно, из какой-то северной карельской губернии, произносил «Александр», то и Ники говорил «Александр».
По окончании службы, вся семья, в очереди старшинства, подходила к солее для лобызания креста, и все почтительно целовали руку протопресвитера, а протопресвитер отвечал целованием рук как у родителей, так и у детей. Я всегда бывал в церкви, но стоял среди публики, недалеко от мамы. По окончании обедни протодиакон выносил из алтаря большой серебряный поднос с просфорами и с уставным русским поклоном подходил к бархатной занавеске. Очевидно, по наследству от русских нянек великие князья просфорки называли «просвирки». Были они необычайно вкусно выпечены, башенками, с круглыми головками, на которых был выдавлен восьмиугольный крест с копьем и тут же были ямочки от вынутых частиц. Александр-отец отламывал от головки твердо-мягкий кусочек и, съедая его на ходу, остальную просфорку отдавал какому-нибудь мальчику из публики. Я старался всегда подвернуться ему под руку и, если просфорка доставалась мне, был целый день счастлив и горд и как-то особенно чувствовал праздник.
Ники зорко следил за процедурой раздачи и, если видел, что я получил просфору от его отца, отдавал свою гоф-курьеру Березину, которого почему-то очень любил. Великая Княжна Ксения отдавала свою англичанке, при ней состоявшей.
Раздача просфор была раз навсегда установленной церемонией, за которой все прихожане строго следили.
* * *
Большую радость и удовольствие доставлял нам приезд во дворец четырех нянек-кормилиц, пестовавших и самого отца, и его детей.
Я теперь отдаю себе отчет, что, при невероятной смеси кровей в царской семье, эти мамки были, так сказать, драгоценным резервуаром русской крови, которая, в виде молока, вливалась в жилы романовского дома и без которой сидеть на русском престоле было бы очень трудно. Все Романовы, у которых были русские мамки, говорили по-русски с налетом простонародным. Так говорил и Александр Третий. Если он не следил за собой, то в его интонациях, как я понял впоследствии, было что-то от варламовской раскатистости. И я сам не раз слышал его: «чивой-то».
Выбирались мамки из истовых крестьянских семей и, по окончании своей миссии, отправлялись обратно в свои деревни, но имели право приезда во дворец, во-первых, в день Ангела своего питомца, а во-вторых, к празднику Пасхи и на елку, в день Рождества.
Во дворце хранились для них парчовые сарафаны и нарядные кокошники, и было в этом что-то от русских опер, от «Снегурочки». Сначала их вели к родителям, а потом к нам, детям. И тут начинались восклицания, поцелуи, слезы, критика: «как ты вырос, а носище-то, ногти плохо чистишь» и т.д. Александр Третий твердо знал, что его мамка любит мамуровую пастилу и специально заказывал ее на фабрике Блигкена и Робинсона. На Рождестве мамки обязаны были разыскивать свои подарки. И так как мамка Александра была старенькая и дряхленькая, то под дерево лез сам Александр с сигарой и раз чуть не устроил пожара. Эта нянька всегда старалась говорить на «вы», но скоро съезжала на «ты». У нее с ним были свои «секреты», и для них они усаживались на красный диван, разговаривали шепотом и иногда явно переругивались. Подслушиватели уверяли, что она его упрекала за усердие к вину, а он парировал: «Не твое дело». А она спрашивала: «А чье же?» В конце концов старуха, сжав губы, решительно и властно вставала, уходила в дальние комнаты и возвращалась оттуда со стаканом воды в руках. На дне стакана лежал уголек. Александр начинал махать руками и кричать лакею:
— Скорей давай мохнатое полотенце, а то она мне новый сюртук испортит.
— Новый сошьешь, — сердито отвечала мамка и, набрав в рот воды, брызгала ему в лицо и, пробормотав какую-то таинственную молитву, говорила:
— Теперь тебя ничто не возьмет: ни пуля, ни кинжал, ни злой глаз.
Однажды, косясь на Государыню, он вдруг громко спросил:
— А не можешь ли ты чивой-то сделать, чтобы я свою жену в карты обыгрывал?
Старуха ему просто и ясно ответила:
— Молчи, путаник.
А в другой раз, перецеловав его лицо, руки, плечи, обняв его по-матерински за шею, она вдруг залилась горючими слезами.
— Что с тобой, мамонька?— встревожился Александр.— Чивой-то ты? Кто-нибудь тебя обидел? Старуха отрицательно покачала головой. — В чем же дело?
— Вспомнила, родненький, вспомнила. Одну глупость вспомнила.
— Да что вспомнила-то? — озабоченно спрашивал Александр.
— Уж и силен же ты был, батюшка, ох и силен!
— Да что я, дрался, что ль, с тобой?
— И дрался, что греха таить. А самое главное — кусался. И зубенков еще не было, а так, деснушками, как ахнешь, бывало, за сосок, аж в глаза ночь набежит.
Александр ахнул от смеха и расцеловал свою старуху, гордую и счастливую.
— Зато уж и выкормила, уж и выходила, богатырек ты мой любимый, болезный...
Эта мамка пользовалась во дворце всеобщим уважением, и не было ничего такого, чего ни сделал бы для нее Александр. Говорили, что в Ливадии, на смертном одре, вспомнил он о ней и сказал:
— Эх, если бы жива была старая! Вспрыснула бы с уголька, и все как рукой бы сняло. А то профессора, аптека...
...Всех этих нянек поставляла ко Двору деревня, находившаяся около Ропши. Каждой кормилице полагалось: постройка избы в деревне, отличное жалование и единовременное пособие по окончании службы. Работа была обременительная, и за все время пребывания во дворце мамка не имела права ни ездить домой, ни выходить в город.
Приезд этих нянек, повторяю, доставлял нам большое удовольствие, ибо как-то нарушал тот однообразный устав, которым была ограничена наша маленькая жизнь.
Да, конечно: дворец есть дворец, и каждое утро почтительнейший, ловчайший, с ухватками фокусника, лакей сервировал нам какао, горку твердо-ледяного сливочного, фигурно вылепленного масла и горку таких булочек, что плакать хотелось. Все это бесшумное и торжественное великолепие сначала ослепляло, но потом стало привычным и скоро приелось. Одно только и было интересно, что необыкновенно чистые, до прозрачности вымытые ногти лакея. А все остальное: ну да, булочки; ну да, масло; ну да, салфеточки; но сиди за столом по команде; не болтай ногами; не разложи локтей, как хочется; не зевни; таскайся целый день в воскресном костюме; береги глянец сапог; будь начеку к осмотрам, к внезапным ревизиям, на которых ты играешь роль отставного козы барабанщика; вперед не забегай, в середке не мешай и сзади не отставай; потом в сад на пятнадцать минут, а в саду через стенку слышно, как шумит Невский проспект, а с ним — целый мир. Про петербургский климат много писали плохого, но когда там весна или начало осени, то рая не нужно. И вот чувствуешь, кожей ощущаешь, что простой веселый воробей попал в кампанию экзотических птиц.
И разве это — счастье?
Счастье в том, чтобы зажать в ладонь, еще не выспавшуюся, мамин двугривенный и, в одних трусиках, пулей лететь в мелочную лавочку купца Воробьева, спуститься по сбитым ступенькам в полутемное подвальное помещение, вдохнуть очаровательный, только в России известный запах квашеной капусты, маринованной, в бочонке, сельди и толстой сахарной бумаги; купить осьмушку затвердевшего масла, бутылку новодеревенского молока и трехкопеечную марку для городского письма, — и все это донести с шиком, с разгоном, не пролить, не разбить, не потерять и потом воссесть за стол, ощутить беспокойный аппетит, уплетать, вспоминать тающий сон, мысленно разрабатывать программу дня и потом свобода, пыльная дорога, сады, сирень, воздух — по копейке штука и горизонтом пахнет.
У воробья была своя жизнь и, особенно, у воробья коломенского, который живет в одноэтажном деревянном доме.
Но Александр Третий (я это понял потом) был человек умный, не набитый придворной спесью. Я потом уже узнал, что он просил, например, своего брата Алексея «сделать Ники мужчиной». И, вводя в свою семью меня, он умышленно выбирал мальчишку с воли, чтобы приблизить к этой воле птиц экзотических, ибо, собираясь царствовать, собираясь управлять людьми, нужно уметь ходить по земле, нужно позволять ветрам дуть на себя, нужно иметь представление о каких-то вещах, которых в клетку не заманишь. На больших высотах дышат так, а внизу — иначе.
И вот однажды в саду, во время дружеской болтовни, Ники расспросил меня про Коломну: что такое Коломна? Где она находится и подчиняются ли дедушке тамошние люди? Я рассказал все честно и откровенно.
— А что ты делал в Коломне? — спросил Ники.
Несмотря на дружбу, на одинаковый возраст, на склонность к шалостям, я своим детским инстинктом чувствовал снисходительное к себе отношение, как к бедному родственнику, которого пока что терпят, а потом прогонят и скоро забудут. Потом уже, в зрелые годы, я осознал свою аничковскую жизнь и понял, что тайна династий заключается в том, что они несут в себе особенную, я сказал бы — козлиную, кровь. Пример: если вы возьмете самого лучшего, самого великолепного барана и поставите его во главе бараньего же стада, то рано или поздно он заведет стадо в пропасть. Козлишко же, самый плохонький, самый шелудивенький, приведет и выведет баранов на правильную дорогу. На земле много ученых, но никому в голову не приходило изучить загадку династий, козлиного водительства, ибо таковая загадка несомненно существует. И еще другое ибо: стада человеческие, увы, имеют много общего со стадами бараньими. Я имею право сказать это, ибо едал хлеб из семидесяти печей.
И когда Ники, этот козленок, поправляя меня в пении, повелевал мне не ошибаться, он смотрел на меня такими глазами, которых я нигде не видал, и я чувствовал некоторую робость, совершенно тогда необъяснимую, как будто огонек прикасался к моей крови. И теперь этот Ники спрашивает меня же о вещах, которые я прекрасно знаю и которых он не знает. Это был клад, с которым можно было взять реванш. Я почувствовал вдохновение и ответил:
— В Коломне я был представляльщиком.
Райский птенец был озадачен, что и требовалось доказать.
— Что такое представляльщиком? — спросил он.
На цирковых афишах часто пишут: «Чтобы верить, надо видеть». Эта фраза всегда ласкала мое воображение, и на этот раз я имел удовольствие ее повторить.
— Чтобы верить, надо видеть.
— Ну, где же это я увижу? — сказал жалобно Ники.— Не в саду же этом?
— В саду этом ты ничего не увидишь, — ответил я.
— Ну, покажи, Володя, покажи.
И тут я почувствовал, что бездомный бедный воробей имеет свои преимущества.
— Я показал бы, да ты всем расскажешь.
— Никому не скажу, Володя.
— Побожись.
У нас в Коломне был такой статут: когда вам говорили: «побожись», вы должны были гордо и презрительно ответить: «к моей ж... приложись». Но кому в голову могло прийти требовать исполнения этих статутов в дворцовой обстановке, и я ограничился только гордой и загадочной улыбкой.
— Я буду побожись, — сказал печально Ники, явно не знавший слова «божиться».
— Скажи: убей меня Бог, что не скажу.
— Убей меня Бог, что не скажу.
— Ни отцу, ни матери, ни тинь-ти-ли-ли, ни за веревочку.
— Ни отцу, ни матери, — и тут Ники запнулся: дальнейших хитросплетений, как я, впрочем, и ожидал, он выговорить не мог. И я гордо усмехнулся такой беспомощности.
— Ладно, — сказал я, идя на уступки. — Но помни: если обманешь, то Бог с корнем вырвет ноги. Понял?
— Понял, понял, — лепетал Ники, едва ли что-нибудь понимая. Теперь, на склоне лет, я, вспоминая дворцовую жизнь, начинаю понимать, какой это ужас, когда ребенку вбивают в голову четыре языка, четыре синтаксиса, четыре этимологии. Какая это путаница, какая непросветная темень!
— Ну вот, — сказал я, — теперь смотри.
Я пошел за толстое дерево, сломил небольшую ветку и, опираясь на нее, как на трость, вышел, пьяно качаясь. Сделал снисходительный жест почтеннейшей публике, помахал на себя ладонью, как веером, и баском спел:
Ах, простите, госыпода,
Я сегодня пьян...
Дело в том, что в Коломну время от времени приезжал какой-то полотняный балаган, который мы звали комедией и куда на стоячие места нас пускали за три копейки. Я воровски экономил на маминых покупках эти три копейки, пробирался в стоячие места, садился верхом на острый забор и, не замечал страданий от этой позиции, жадно, запоем впивался в «парфорсное» представление: Бог с младых ногтей моих благословил меня любовью к театру. Я всех знал: и шпагоглоталыцика Вольдемара, и артистку шаха персидского трапезистку Мари, и трех ученых собак, и клоуна Шпильку, и куплетиста Этьена. Теперь я думаю, что в этом Этьене были какие-то проблески таланта. Я бредил им, я видел его во сне, я следил за ним, когда он в свободные минуты выходил из балагана и неизменно направлялся в трактирное заведение. Перед стойкой он делал молчаливый жест, и там уже знали, что нужно. У Этьена слезились глаза, и они казались мне самыми прекрасными в мире. У Этьена была грязная шелковая двубортная жилетка, и она казалась мне с королевского плеча. Когда он пел: «Если барин при цепочке, эфто значит без часов», — он вынимал из жилетного карманчика цепочку и на ней действительно часов не оказывалось, — и это имело дикий успех, ибо в этом было презрение к барину.
Если барин при калошах,
Эфто значит без сапог...
В кабаке, за три копейки, Этьену давали маленький, зеленого толстого стекла, стаканчик, и Этьен, как-то особенно вкусно, брал его на ладонь, долго и молча вдыхал аромат сивухи, всячески отдалял момент наслаждения и вдруг вскрикивал: «Запаливай!»
В дворцовом саду этим волшебным Этьеном был я, маленький Володя, но моя почтеннейшая публика, в лице Ники, понятия не имела, что такое шик, блеск и, в особенности, иммер элеган (впрочем, последнего я и сам не знал). Ники не понимал символизма: «пустой карман» и что такое «пьян».
— Но у меня тоже пустой карман, — недоуменно говорил Ники, выворачивая свой карманчик.
— Да, — учительствовал я. — Карман пустой, но, если ты попросишь своего папу, он тебе может двадцать копеек дать.
— А что такое двадцать копеек? — продолжал вопрошать Ники.
— Фунт карамели можно купить, — выходил я из себя.
— А что такое пьян?
Я прошелся по лужайке покачиваясь.
— Вот что такое пьян, — объяснял я.
Ники тоже прошелся покачиваясь.
— И я пьян? — спросил он.
— Конечно, пьян, но ведь все это понарошке.
— Как это понарошке?
— Так, понарошке. А чтоб было всамделишнее, нужно водку пить.
— Какую водку?
— Так, горькая вода есть такая.
— А зачем же пить горькую воду?
— Чтобы запаливать.
— А ты пил?
— Нет.
— Почему?
— Потому что мама выдерет.
— А-а... — с почтением протянул Ники, потому что он знал, что такое «выдерет».
Дружеская беседа затянулась. Перешли на самую соблазнительную вещь: табак.
— А ты пробововал курить? — спросил Ники.
Я почувствовал ошибку в слове «пробовать», но смолчал и ответил:
— Пробововал.
— Ну и что же?
— Да ничего.
— Мне страшно покурить хочется, — сказал Ники.
— А вот сопри у отца папирос и покурим.
Весь дворец знал, что турецкий султан прислал Александру несколько картонов папирос, но все они были заперты под замок. Пришлось посушить на солнце лопух и тонко нарезать его ниточками. Потом догадались набрать окурков в пепельнице, крошили их в газетную бумагу, сворачивали, но выходило плохо: один конец толстый, другой — тонкий. Но это уже было опасно. Нюхали друг друга изо рта, не пахнет ли табаком? И потом, по коломенскому рецепту, жевали сухой чай. Это отбивало запах. Но, если Император Николай Второй был исправным курильщиком, то в этом были и мои семена.
Шалун он был большой и обаятельный, но на расправу — жидок. Я был влюблен в него, что называется, по-институтски: не было ничего, в чем бы я мог отказать ему. И когда Александр ловил нас в преступлениях, я всегда умолял его:
— Ники — не виноват.
— Ты не виноват? — спросил однажды Александр.
— Я не виноват, — ответил Ники, прямо глядя в глаза.
— Ах, ты не виноват? — рассердился Александр. — Так вот это тебе лично, а это — за Володю.
— Почему за Володю? — со слезами спрашивал Ники, почесывая ниже спины.
— Потому что Володя за других не прячется. Володя — мальчик, а ты — девчонка.
— Я не девчонка, — заревел Ники. — Я мальчик.
— Ну, ну, не реви, — ответил отец и, в утешение, дал нам по новенькому четвертаку.
Вспоминаю, как, иногда, выезжая, например, в театр, родители заходили к нам прощаться. В те времена была мода на длинные шлейфы и Мария Феодоровна обязана была покатать нас всех на шлейфе и всегда начинала с меня. Я теперь понимаю, какая это была огромная деликатность — и как все вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье.
И потому я горько плакал, когда прочитал, что Николай Второй записал в своем предсмертном дневнике:
— «Кругом — трусость и измена».
Но... этого нужно было ожидать.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы...
Назад к списку